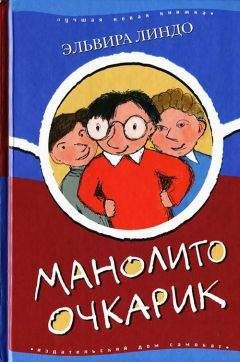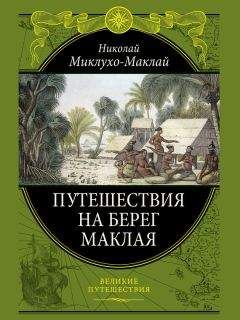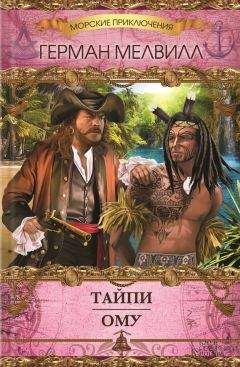Сегодня глянул на карту, которая висит у них дома на стене, а Волга тонкой голубой ниточкой вьётся по России. А сколько в этой голубой ниточке всего?! Разве может хватить одной ребячьей головы и одного сердца, чтобы это всё вместить?!
Вдруг вспомнилось: один раз утром вышел на палубу и остолбенел. Шуру показалось, что Волга… остановилась. Это было так странно… так страшно… Тут и там без движения стояли на ней суда. Оказалось, они пережидали туман. А он, белесовато-голубой, нежный, так и льнул к воде. Ему не хотелось от неё отрываться. А когда отрывался кусками, то Волга казалась мохеровой, будто её расчесали железным гребнем, каким расчёсывают вязаные шапочки, чтобы пушистее были.
Ещё вспомнилось, как нынче утром сходили с теплохода. Шур был прав. Магазина запрягла и Кима, и Веснушку. Они таскали её рыбу, семечки, синенькие перчики и ещё неизвестно что. Они по несколько раз возвращались на судно, чтобы всё перетаскать.
И ещё вспомнилось, как дружной парой ушли в город Лия с Оськой. А Лилии Оська только издали махнул рукой. А та ему не ответила. Отвернулась даже.
Послезавтра в школу. Значит, ещё целый длинный завтрашний день и ночь и сегодняшний вечер и ночь он не увидит… Лилии. Только… послезавтра… Ну и что?.. Увидит и… что? А… ничего… За Шуровой спиной знакомо шумят родные Чебоксары.
И вдруг Шур оборачивается. Неизвестно зачем и почему оборачивается. И видит — Лилию. В новом голубом костюме. Да, да, именно её. И смотрит она — на него! На Шура! Этого не может быть. Но… на него же! В упор. Он, наверно, и обернулся на этот взгляд. И идёт она — к нему! К Шуру! Неужели правда?
— Привет! — говорит Лилия знакомым до ужаса голосом. И глаза её улыбаются, и губы вот-вот улыбнутся.
— Здравствуй… Хотя… утром же…
И оба молчат.
— Скажи что-нибудь… Целый день не виделись, — губы её уже растянулись, но пока не до ушей.
А Шур молчит. Ромка бы сразу нашёлся и сто слов выпалил. А Шур не умеет их, нужных, быстро собрать, чтобы произнести.
— Ты не рад меня видеть?
— Рад.
— Тогда почему молчишь?
А что может Шур ей сказать? И он опять не произносит ни звука. А ей это начинает нравиться.
— Ну, ладно, молчун. Прощаю тебе твоё молчание, — говорит кокетливо и улыбчиво. И вдруг: — Идём в Дом молодёжи?! Там сегодня поздний концерт. Рок-группа приехала. У меня лишний билет.
— Что? — от волнения Шур не всё понимает, что она говорит.
— Оторвись от своей Волги ненаглядной. Никуда не денется. Айда на концерт, а то опоздаем.
Лилия энергично берёт Шура под руку.
«Что это она? Отчего? Зачем? Почему? Разве можно так? Не надо!» — и Шур стоит неподвижно, как каменный. Лилия не может сдвинуть его с места.
«Наверно, она собиралась с кем-то, а тот не пришёл. Вот она ко мне и подошла, чтоб вечер не пропал… А может…»
— А откуда ты узнала, что я здесь?
— Никитич сказал, — и всё держит Шура под руку.
— Я се… я сегодня за-занят… Извини.
— Занят? Чем это? На Волгу смотреть? Давно не видел? Не ожидала от тебя! Очкарик!
Она отрывисто швыряет ему в лицо эти слова. Одно за другим, как острые камешки. Потом передёргивает голубыми плечами, по которым рассыпаны шикарные золотые волны, и резко, нервно поворачивается к Шуру спиной.
«Она же сейчас уйдёт. Уйдёт навсегда, хоть мы и будем каждый день встречаться в классе. А её не станет навечно… Сейчас ещё можно сказать, что он пошутил… Вот уже почти ушла… Уже не почти… Не догнать…»
Окаменевший Шур не двигается с места. Не догоняет. Не просит прощения. А за что? Не за что…
Лилия идёт и не оборачивается. Она, конечно, думала, что Шур бросится за ней. Бегом. Догонять. Но… никто не бежит сзади.
Шур смотрит, не отрываясь, на её лёгкую уходящую фигурку, и ему начинает казаться, что внутри у неё ничего нет. Вот сейчас, наверно, сквозь неё начнёт просвечивать улица Константина Иванова… Как страшно… Как пусто…
Она машет рукой какой-то незнакомой ему девчонке, и они вдвоём бегут со всех ног в Дом молодёжи.
Шуру становится так грустно, так тяжело, что он поднимает лицо к небу и смотрит на далёкие звёзды. Долго-долго. (Так ему кажется). Ночь ещё не наступила, и звёзды еле видны. Кое-где. Будто небо тут и вон там и там укололи острой булавочкой, которая оставила после себя эти тоненькие следы от уколов.
— Опять в небо уставился?! Ну что ты там не видел?
Это Ромка. Как вовремя появился, иначе Шур умер бы от грусти.
— А я догадался, что ты тут торчишь. Дома тебя нет, значит, на Волге.
И, видя шевелящиеся Ромкины веснушки, Шур вдруг успокаивается. Всё как-то становится на свои места. Всё правильно. Всё так и должно быть. И неожиданно ему делается легко-легко. А Ромка выпаливает:
— Слушай, а если из Чебоксар цветы взять, то они до Волгограда не завянут?
— Не знаю. А зачем тебе?
— У нас на даче цветут и цветут. Я сегодня был. Я раньше их и не замечал. Вот бы их все туда… А? Ведь ещё больше посадить можно.
— Да… Здорово бы…
Шур не переспрашивает, куда это «туда». И так понятно.
— Ой, смотри, вон судно какое-то… Раньше не интересно было, а теперь интересно, — болтает Ромка. — А куда идёт? К нам или от нас?
— К нам.
— Почему? Далеко ведь, не видно.
— Видно. У него на правом борту зелёный огонь, на левом — красный.
— Почему я не могу запомнить, — искренне возмущается Ромка.
— Я же тебе говорил, как запомнить. Зелёный справа, красный слева. Не забывай: красный там, где сердце.