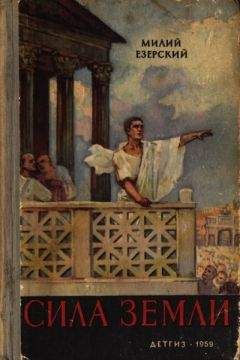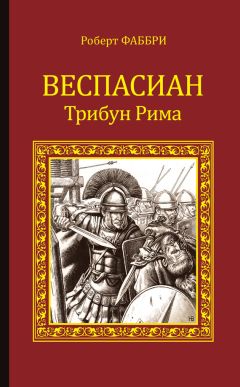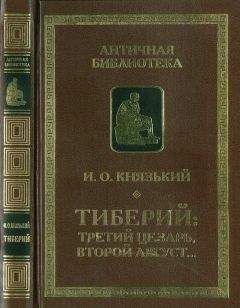Афраний молча наблюдал за сборами. Когда вош Сервий, он тихо сказал:
— Земля вас зовёт… Понимаю… То же было и со мной, когда я много лет назад ушёл из Цереат. Тогда я был юношей, а всё же тосковал по земле. Запах её преследовал меня во время походов и после битв. Но постепенно он улетучивался, облик Цереры тускнел, а вместо этого я слышал запах пота и крови, видел Марса и Минерву… После многих битв в Азии я перестал думать о земле, понял, что настоящий квирит должен воевать и жить в Риме. И я остался в городе, чтобы способствовать величию отечества.
— И ты, отец, стал клиентом Катона?
— Да, я служил своему патрону, а патрон решал судьбы отечества. Оба мы работали на пользу республики.
— Однако ты, отец, не любишь нобилей…
— А какой плебей любит их? Но такие мужи, как Катоны и Сципионы, служат отечеству.
— Сципион?!
— Я говорю о победителе Ганнибала и разрушителе Карфагена. А Сципион Назика пусть будет проклят навеки!
Прощаюсь с Афранием и Марцией, Сервий наполнил вином кружки:
— Вы уже стары. Не пора ли вам возвратиться на землю, покинуть город?
— Нет, — ответил Афраний. — Работать в поле мне трудно, да и отвык я от плуга. Моё место в городе: я голосую за патрона, делаю, что он прикажет, а он меня кормит.
— Горька твоя жизнь, Афраний! Ты ненавидишь нобилей, а служишь им…
— А что делать? — вздохнул Афраний. — Сын Катона Цензора не такой скряга, как был его отец.
Мульвий покидал Рим без сожаления.
«Некому больше служить, — думал он, прислушиваясь к речам старших. — Тиберий погиб, его сторонники перебиты. Кто теперь защитит плебс от гнева нобилей, кто станет помогать ему?»
Простившись со стариками, Сервий впрягся в повозку, на которой поверх домашнего скарба сидели в корзинках, привязанных к бортам повозки, дети, и пошёл по улице. Мульвий и Тукция сзади подталкивали повозку.
Они пошли по Аппиевой дороге, гремя деревянными башмаками. Каменная дорога была тяжела и непривычна, болели ноги, и путники договорились с одним из садоводов за небольшую плату подвезти их.
Дорога вилась между гор, карабкалась на кручи, сбегала в долины; иногда она вплотную подходила к горной речке, и брызги быстрой волны долетали до путников, а пена оставалась на ногах осла, лениво тащившего повозку.
Мульвий потешался упрямством осла и помогал вознице подгонять его, но осёл, остановившись в воде, равнодушно смотрел на волны, и только камни, ударявшие по ногам, заставляли его двигаться вперёд.
А вот и городок, опоясанный тёмной высокой стеной, зелёные холмы, рощи, виноградники, стада белых овец, похожих издали на пятна снега…
«Эта стена так широка, — думает Сервий, — что на ней можно было бы построить большую хижину и разбить сад, если бы было там достаточно земли». Он ещё мальчиком играл здесь. Ему хочется рассказать об этом Мульвию, но тот, вне себя от восторга, кричит:
— Смотри, дядя Сервий! Люди измеряют землю… Это, наверное, землемеры! Они и тебе отрежут участок!
Радость Мульвия передаётся Сервию.
— Быстрее погоняй! — приказывает он вознице.
Поравнявшись с землемерами, Сервий выскакивает из повозки и бежит к ним.
— Я плебей Сервий, — говорит он запыхавшись. — Отрежьте мне возле Цереат хороший участок с виноградником и маслинником… Я помогал изгнать Сципиона Назику из Италии…
— Сципион Назика изгнан? — вскрикивает стройный порывистый юноша, и лицо его покрывается румянцем, а тёмные глаза сверкают. — Слава богам! Одним убийцей меньше в Италии!
Он обнимает Сервия, расспрашивает о событиях в Риме и заканчивает речь словами:
— Бедный мой брат! Он погиб, но дело его не умерло: плебеи получат землю…
На глазах юноши слёзы. Сервий догадывается, кто этот юноша, но Мульвий не выдерживает.
— Ты Гай брат Тиберия, — говорит мальчик, и глаза его сверкают необыкновенной решимостью. — Если позволишь, я буду служить тебе! Меня зовут Мульвий.
Улыбаясь, Гай отвечает ему:
— Я рад, что ты готов помогать мне… Когда ты понадобишься, я позову тебя. А пока иди к отцу, работай с ним на земле, и да поможет вам добрая, щедрая Церера!.. А ты, Сервий, обратись к старшему землемеру: он отмерит тебе тридцать югеров лучшей земли Метелла Македонского…
Гай Гракх потребовал у вольноотпущенника, управлявшего виллой Метелла Македонского, доказательств, что поля составляли частную, а не общественную собственность; однако виллик не мог дать таких сведений.
— Эта земля никогда не была общественной, — с раздражением говорил виллик, хмуро поглядывая на Гая, — она с незапамятных времён наследственна, и никто не имеет права её трогать.
— Предъяви старинные записи, — потребовал Гай Гракх.
— Их нет. Они сгорели во время пожара.
— Раз нет доказательств — будем делить.
И он приказал землемерам приступить к распределению земель и установить межевые камни.
— Это незаконно! — кричал виллик. — Мой господин не потерпит…
— Молчи, виллик! — вспылил Гай. — И не суйся не в своё дело!
Сервий получил хороший участок, смежный с полем Мания. Маслинник, виноградник и поле, на котором колосилась пшеница, радовали взор земледельца. «Теперь, — думал Сервий, — земля будет для нас матерью и кормилицей. Здесь мы проживём всю жизнь, здесь и умрём».
Небольшая хижина, в которой жили во время полевых работ невольники, показалась ему тесной, и он решил расширить её, сделать пристройку для скота и поставить высокую изгородь.
Тукция тоже была довольна наделом. Она смотрела на Сервия счастливыми глазами и говорила:
— Как хорошо, что мы дома! Помнишь тот день, когда ты, уходя на войну, пришёл ко мне в виноградник? Тогда я поняла, что добрая Юнона не захочет нас разлучить навсегда.
— Да, — вздохнул Сервий, — но Деций не хотел, чтоб я был его зятем.
— Не говори о нём дурно, Сервий, отец желал мне добра…
Сервий молчал.
— А теперь, — продолжала Тукция, весело поглядывая на него, — надо навестить соседей. Иди к ним. А я тем временем уберу в хижине, разведу огонь, сварю похлёбку, приготовлю ложе для спанья… Ну, иди, иди, Сервий, да поскорее возвращайся.
Сервий направился к Марию; ещё издали он увидел Тита и Мания, спешивших ему навстречу.
Старый Марий сидел под развесистым платаном в одной тунике. На коричневом лице его выделялись седые усы и борода. Увидев Сервия, Марий прищурился, всплеснул руками.
— Ты? — вскричал он. — Откуда? Вот не ожидал!
— Я из Рима… Слыхал ли ты, господин центурион, что там произошло?
— А что?
— Тиберий убит. Гай Гракх делит земли у нас в окрестностях…
— Знаю, — вздохнул Марий, и в суровых глазах его блеснула слеза.
— Ты плачешь! — вскричал Сервий. — А каково было мне смотреть на убитых плебеев, узнать об убийстве нашего друга Тиберия!
Взволнованные Тит и Маний молчали. Они уже знали подробности от Мульвия и не решались прервать путаный, прерывистый рассказ Сервия.
— Эх, не уберегли мы своего трибуна! — с горечью прошептал Маний, когда Сервий умолк.
Прибежала жена Мария — Фульциния. Она, всхлипывая, повторяла:
— Какое горе! Пусть Немезида[126] тяжко покарает убийцу!
— Плебс изгнал его из Италии. Убийца нигде не найдёт себе покоя, никогда не возвратится к ларам!
И Сервий снова и снова рассказывал о том, что произошло в Риме. Он говорил о ненависти плебса к жестокому Сципиону Назике, о преследовании его в Риме и изгнании из Италии.
— А как же теперь земля? — тихо спросила Фульциния, взглянув на мужа.
— Земля? Земля наша, и мы не отдадим её никому! — твёрдо ответил Марий.
— Тем более, — прибавил Тит, — что никто не может отменить земельный закон Тиберия.
— Это верно, — согласился Марий, — но не надо забывать, что нобили разъярены и могут отомстить нам. Если они посягнут хотя бы на частицу моей земли, я выну меч, чтобы защищать её так же, как не раз защищал наше отечество от врага!
— Ты прав, центурион, — поддержал Тит, — и я всегда буду с тобой.
Маний презрительно засмеялся:
— Двое против легиона — многого не добьётесь! Нет, клянусь Юпитером, вы забыли силу, способную смять злодеев!
— О какой силе ты говоришь? — спросил Марий.
— Ты говоришь о плебсе, о комициях! — вскричал Сервий, и лицо его оживилось.
— А, это ты, Сервий! — Маний точно впервые увидел Сервия. — Возвратился на родину?
— Да, возвратился с семьёй.
— С семьёй?
— Да, с Тукцией и детьми. — Сервий прямо смотрел в глаза Манию.
Лицо Мания омрачилось.
— Итак, ты её нашёл… это хорошо, — сказал он, сдерживаясь, чтобы не показать своего волнения. — И она такая же, как была?
— Какая?
— Такая же весёлая и такая же несговорчивая, как прежде?