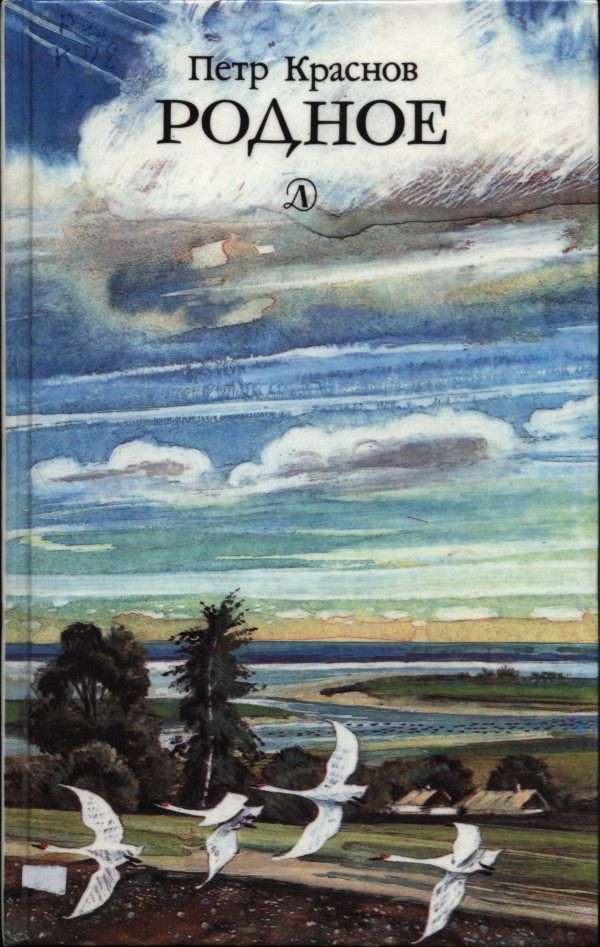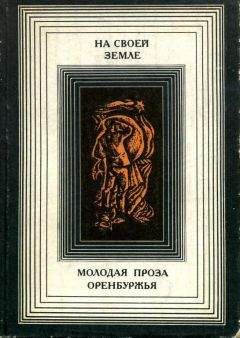как корень земляной, был человек суровый: «А ты-то здесь какого? Гришку бы своего пропер сюда… остерег бы, чай, не переломился. Будет ему лягушек-то по берегам сшибать, с отца, лоб такой, выдул уж, под матку…» — «Да-к не хочет, что ты с ним сделаешь… — растерянно как-то, конфузливо оправдывался дядя Васька. — Уперся, м-мать его! Лучше, грит, дома — картошку лучше оброю… Хрен с ним, мне-то не все ль равно, здесь иль на огороде. Да и куда их, двух парнишек…» — «Парнишек!.. У твоего-то уж усы, у парнишки… он те скоро поднесет к носу кулак-то! Поднесет, добалуешь. Моя б воля…» Гришке и вправду жизнь — умирать не надо, что хочет, то и делает, а управы на него никакой. Ни во что никого не ставит, ни старых ни малых не различает, голодный вечно, злобноватый и вдобавок дурак каких мало. Его уж и побаиваться стали: мало ль что удумает, что ему в голову взбрести может… Недавно обозлился за что-то на своих, вилы в руки — и на крышу: пораскрою, орет, вы у меня помокнете!.. Поковырял, а взять не взял: уже не соломенная — земляная стала крыша, так перегнила вся и слежалась. А утром хвать-похвать — нету вил, единственных вилишек на все их хозяйство, хоть в соседи иди. Спасибо, люди добрые подсказали: что это, мол, у вас второй день вилы в крыше торчат?..
И в школе измучились с Гришкой, уже на два года отстал, в седьмом все сидит. В доме холодина — хоть волков морозь, струпья да вши, по парте бегают вши, а он их спичкой «дрессирует»; а если спросят о чем, то встанет и глядит как вот Цветок, простые даже слова не сразу понимает — тупой очень. И девки, сестры его: в святой канун у двора не подметут, изумлялись бабы, лишний раз не повернутся, полов не моют, вот какие девки! Мать у них только не ночует на базе, опять вон лишнюю группу телят прихватила, желтая вся, сгорбленная, страшная от работы; прибежит с темнотою — а в доме, а на городе как стояло все, так и стоит, на волосок не сдвинулось, ее дожидается… Поругается без толку да в работу опять. Да ведь в колхозе там либо на «помочи», дивились, Погребошник хоть куда, самого черта сломит, а вот дома своего как нет у него, все бы ходил руки в брюки, чепуху городил. Хорошо еще — власть сейчас старается, помогает хлебом, а то бы как такие вот жили?
А вот уж забрело скрасневшееся солнце в одну тучку, в другую перекочевало, и вот сошло, закатную мглу разогревая; вечерней полынной пылью запахло, отяжелели тени и ветер, весь день трепавший, унялся, и полого опять вытянулась ископыченная стадами, до шороха высохшая степь — домой пора. Ты уйдешь, где-то ходишь там, а дом ждет. Родные показались крыши, зады соломистые и плетни, огородной укропной прохладой потянуло с долины, под ногами домашняя уже мурава, и отраженным, но все равно призывным светом небесным, меркнущим занялись окна, еще далекие, а под ними, он знает, уже люди сидят, каждый свою корову ждет-дожидается, и ребятишки малые бегают, спешат доиграть, пока светло и стадо не заполонило, не отняло еще у них улицу, пока лето и тепло…
Он рассказал дома, как все с быком вышло, и братик тоже (затесавшись меж колен к нему, пока он по-взрослому устало, неторопливо ужинал, — соскучился братик) слушал, заглядывая преданно в глаза ему, и со всеми вместе счастливо закатывался, даром что ничего не понимал еще, только разговаривать учился. Посмеялись, мать рукой махнула, сказала:
— Да бог с ним… он ить безобидный. Сроду такой.
На что отец только протянул:
— Ну не скажи-и…
Цветок потом, очередные пастухи рассказывали, дня три бунел, беспокойный был, камнями только и спасались, кнута-то он не очень боится. А Погребошник ходил как ни в чем не бывало и всем рассказывал, смеясь и удивленно, малость с нервностью только, подергивая бровями, приглашая послушать и посмеяться:
— Речь ему, што ль, в газете не пришлась… шут его знает! Так и вздел на рога! Ну, думаю, так и не дочитать мне газеты. Всю изодрал, сволочь такой!.. Хотел отнять; да, думаю, хрен с ней, с газетой… пусть побесится, раз так, ей и цена-то две копейки. Не стал отымать. Он ить меня боится, Цветок-то; шут с ней, думаю, с газетой — ишшо принесут…
Смеялись и над Бурдяем — вот еще человек тоже!.. Уж тащит в дом, тащит, уже и некуда, все хоромы свои великие понабил, добро на добре лежит, добро давит, гноит — а все мало ему. Ведь уж про себя забыл, землею зарос, и все воруют с женой на пару, тащат. Знать все знали, видели, и кто не без греха; а вот чтобы поймать — этого власть не сумела, хитер Бурдяй. Правда, тоска в нем какая-то завелась с недавних пор, попивать начал, да это и понятно: добра всякого, денег много — а кому? Детей-то нету. Не сказать, чтобы сильно пил — нет, такого не было; не пьет, соглашались все, а «потягивает», каждый день, считай, прикладываться стал — и нехорошая эта примета… Он как-то, довольно-таки подпив, и сам со смешком, с ухмылкою понимающей толковал мужикам, куда и хмурость обыденная делась:
— Анадысь, друзья-товарищи, впросак я попал. Прямо так попал, что хоть плачь, нечего с базы взять — и все тут!.. К большому коровнику, где ремонтируют, сбегал: думаю, хоть доску какую… нету! Соль комовая, то же самое, заперта… да и на кой она, прости господи, самому лизать? Так аж беспокойство прямо взяло. Оно ить как: не несешь — живот болит, а тащишь — как будто быть так и надо, и душа в спокое, гляди да оглядывайся только… Ну, подцепил на вилы котях колхозный, на дороге валялся, да пошел домой. И пра-слово, все как-то легчей сделалось: прибыток как-никак, не пустой идешь… Натура!
Это Бурдяй рассказывал у них за столом, сидя с мужиками после разгрузки машин. А сидели по великой радости: лес они с отцом привезли, на новые избы. У того-то, правда, и старый пятистенок дай бог каждому; а вот они дождались, наконец купили! Устали в саманухе жить, мерзнуть, к подсохе подсоху становить, столько лет деньги собирали, себе во всем отказывали — дождались. Небольшой хоть будет домок, а деревянный, свой. Под окном бревна