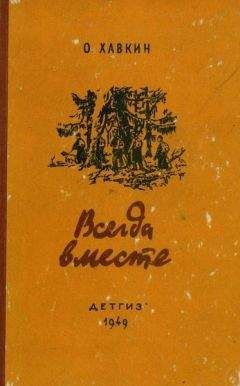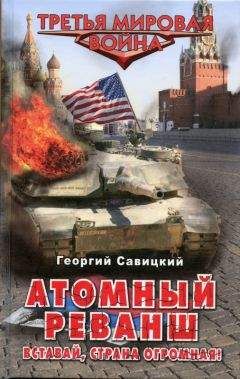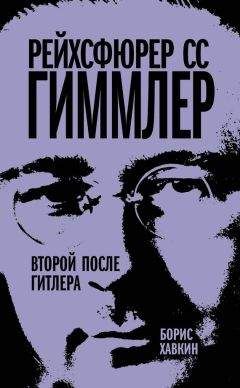— «Как, как»! — изнемог наконец дед. — Ты что, Коша, в попы готовишься — меня исповедуешь? У меня грехов нет. Чист, как святцы… Дай ему, Ионовна, варенья из новой банки, пусть помолчит.
Кеша деловито намазывал варенье на пшеничный ломоть хлеба, а расспросы продолжал.
Через несколько дней Боровикова навестил школьный поэт Толя Чернобородов; он пучил на деда бесхитростные круглые глаза, ерошил волосы и тоже записывал, а когда уходил, уже на пороге, воскликнул: «Нашел, нашел! Вот это рифма: деда — победа!» Тут уж Марфа Ионовна усомнилась в Толином здоровье и заявила, что интернатская жизнь не доведет ребят до добра.
Если бы Захар пришел с бумагой и карандашом, дед бы, наверно, выставил его за дверь. Но Астафьев купил деда фотоаппаратом. Юноша был, как всегда, немногословен и только нащелкивал, снимая деда «по бороду», в пояс и полный рост, одного, и с бабушкой, и даже с огромным, в рыжих полосах, котом по прозвищу Арестант.
В солнечный, погожий день ввалился в дом Сеня Мишарин с ящиком красок и холстом. Он усадил школьного водовоза в кресло, и дед просидел полтора часа, не шелохнувшись, пока не взмолился:
— Курнуть-то дай, мучитель!
Едва выпросил пять минут на перекурку.
Было над чем поломать полову деду и Марфе Ионовне, тем более что на все дедушкины расспросы следовали неопределенные ответы.
Наконец пришел Платон Сергеевич, выпил литровую банку боровичихинской бражки и настойчиво допрашивал стариков, в чем они нуждаются, какие у них недохватки и чего хотят.
Захмелел, что ли, дед от бабушкиной бражки, но на язык стал остер и колюч:
— Чего бы хотели? Сына хотели бы увидеть — Павла Петровича Боровикова, что в авиации служит! К дочкам и внукам хотели бы съездить в Ленинград и Харьков! Вот мои нехватки! А насчет одежи не беспокойтесь, Платон Сергеевич, не первый день живу на свете. Нажили, слава богу.
— Ну, а все-таки? — добивался Платон Сергеевич. — Неужто, Данилыч, ничто тебя не интересует?
Дед подлил гостю из жбана бражки и поманил пальцем: «склонитесь поближе».
— Ин-тере-сует, Платон Сергеевич, интересует, — зашептал он, накрывая ухо директора косматой бородой. — Очень интересует меня: почто меня народ обхаживает? Что им от меня надо? Уж вы, по старой дружбе, просветите.
Директор сделал удивленное лицо и взмахнул руками:
— Что ты, Данилыч! Ишь ты! Дело-то какое! А я и не знал! Обхаживают? Ишь ты!
Дед всердцах сплюнул:
— Лукавите вы, Сергеевич, лукавите! — И уже спокойнее сказал: — Ладно, если хотите удружить, то признаюсь: давно мечтаю о трубочке пе́нковой. Удобная штука, думать помогает. Вот все.
Тем и закончился разговор.
Подошел конец марта.
Субботним вечером Тиня Ойкин и Зоя Вихрева постучали к Боровиковым.
Они застали деда за чаепитием. Возле него на круглой подставке стоял объемистый медный чайник; початая стеклянная банка с голубичным вареньем была придвинута к стакану.
— Какое там заседание? — вытирая расписным рушником медное, как чайник, лицо, опрашивал Боровиков. — У меня ныне банный день! Су-уббота! Что им приспичило? Без деда оправятся!
Тиня, улыбаясь, поглаживал чолку:
— Не сейчас, Петр Данилович, а завтра в шесть часов.
— И не один приходите, — добавила Зоя, — а с супругой. Вот, пожалуйста, билет…
Дед потянулся было за билетом, но проворная Марфа Ионовна опередила его. Повертев билет в руках, она степенно положила его в карман фартука. Боровиков искоса посмотрел на свою супругу, крикнул и взялся за чайник.
— Завтра, говорите? Еще лучше! — добродушно язвил дед. — Дозаседались — недели нехватает, до воскресенья добрались.
— Что с тобой стало, Данилыч? — с неожиданным участием опросила Марфа Ионовна. — Ты, дед, часом не заболел? На заседания ходить — твое любимое дело.
— Тьфу ты, старая, тебе-то чего не сидится!
— Пойдем, Данилыч, — примирительно сказала Боровичиха. — Может, премирование будет или концерт.
— И не забудьте, Петр Данилович, — сказал Тиня Ойкин, — в парадной форме!
— Что я вам — генерал, что ли! Ладно уж…
Проводив гостей, Марфа Ионовна пошла в стайку подоить козу, потом прибиралась, долго гремела на кухне посудой, и дед, разморенный баней и чаепитием, уснул, не дождавшись ее возвращения.
А назавтра пришлось деду со старухой пилить дрова, стайку поправлять. Подошло дело к закату, старики заторопились в школу и забыли про билет.
Уже у самой школы Боровичиха остановилась, как вкопанная, и всплеснула руками:
— Господи, приглашение-то в фартуке оставила!
— Вот, вот, — начал подтрунивать дед, — потому ты завсегда вперед заскакиваешь… — Но, видя огорчение жены, он сказал: — Не бойсь, все-таки, как-никак, я заместитель по хозяйственной части. Пропустят.
Только-только дед в своей черной опаре с галстукам, повязанным под самой бородой, показался в зале, он услышал гул оркестровой меди и дружные хлопки, увидел обращенные к нему смеющиеся ребячьи лица. «Опоздали, — слегка подтолкнув супругу, в бок, недовольно проворчал дед. — Прособирались. Уже без нас что-то важное сказанули».
Но речей никто не говорил. Наступила внезапная тишина, и сквозь эту тишину Кеша Евсюков и Зоя Вихрева провели стариков в первый ряд и усадили в кресла.
— Не иначе, как меня хотят председателем месткома выбрать, вот и обхаживают! — шепнул жене смущенный водовоз.
В это время к столу президиума, накрытому красной скатертью, подошел директор школы. Он, помедлив, торжественно объявил:
— Сегодня, ребята, мы чествуем нашего дорогого юбиляра — Петра Даниловича Боровикова.
Тогда, вновь оглушенный оркестровым громом и аплодисментами, дед чуть приподнялся в кресле, взглянул на свою старуху и зашарил по карманам. Он вытащил свою неразлучную торбу-кисет, но не закурил, почему-то поднес торбу к глазам, затем взмахнул рукой: «Эх, где моя не пропадала!»
А Боровичиха, просидев пяток минут с разинутым ртом, сняла с головы платок, вновь перевязала его и взяла деда за локоть, словно боясь, что он исчезнет.
Вот теперь, наконец, дед увидел и вывешенный в простенке меж знамен свой портрет, рисованный Сеней Мишариным, и над ним на красной ленте: «Привет славному труженику-патриоту деду Боровикову в день его семидесятилетия и двадцатилетия работы в школе!», и школьный журнал с тремя фотографиями астафьевской работы, и на одном из снимков Арестант пялил в зал свои глаза.
— Ах ты, шут меня побери! Провели, ребятки, провели вы меня! Провели деда Боровикова!
Сидя в президиуме, дед попросил у Геннадия Васильевича пригласительный билет и уцепился за него, как за якорь спасения. Он уткнул в белый квадрат бумаги дымчатую свою бороду:
«…Дирекция, местный комитет, комсомольская организация и ученический комитет приглашают Вас на юбилейный вечер, посвященный семидесятилетию трудовой жизни и двадцатилетию работы в школе Петра Даниловича Боровикова».
Бывает, наверно, в жизни настоящего человека такой особенный день, когда он осознает: не зря прошли годы, славно прожил!
Такой день наступил у деда. Распрямилась сутулая, сгорбленная трудом спина, раздались плечи, молодо заблестели глаза: «Эх, знай наших!.. Летчика бы моего сюда да всю боровиковскую поросль… Вот тебе и школьный водовоз!»
Правда, дед забылся на минуту, когда со второго ряда ему понимающе подмигнул Назар Ильич, прищелкнув под подбородком: мол, зальем это дело. Дедушкин узловатый палец тоже было потянулся для ответного знака, но суровый взгляд Марфы Ионовны образумил старика.
Потом вышел Толя Чернобород он и прочел свои стихи «Дед-патриот»:
Недоем и недосплю,
Не могу сидеть на печке:
Дров для школы напилю,
Навезу воды полречки…
Речей было много. У деда голова кругом пошла. Ему стало жарко в своем костюме и страсть как захотелось испить из своего ковшика ледяной воды.
На столе перед дедом росла груда подарков. С нетерпением посматривал Петр Данилович на красивую, красную с черным, в металлических пластинках трубку, на роскошный из черной кожи кисет, на пачки ароматного трубочного «Дюбека». Марфе Ионовне больше всего понравился цветной вязаный шарф, который подарила деду Зоя Вихрева «от девочек»:
— Живите, дорогой Петр Данилович, долгие-долгие годы, носите наш шарф на доброе здоровье.
Вот уж когда разговорился дед Боровиков! Дорвался! В самом деле, разве это разговор, когда перекинешься двумя-тремя словами во время разлива воды из бочки по ведрам!
Дед понял, что может развернуться, и развернулся.
— Вот что хочу я сказать. Двадцать лет тому назад были мы со старухой в партизанах. Тогда мы с Ионовной совсем еще молоденькие были — по полсотне лет, и только.
— Ну уж, не прибавляй, Данилыч, — не выдержала Марфа Ионовна. — Мне-то всего сорок с лишком было.