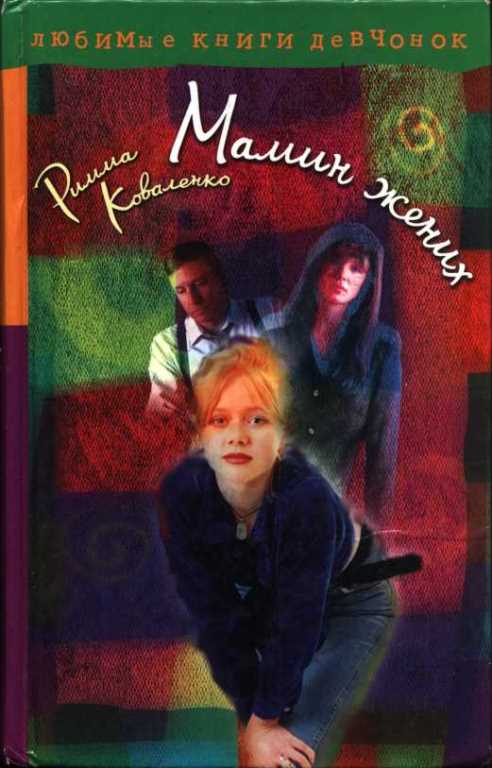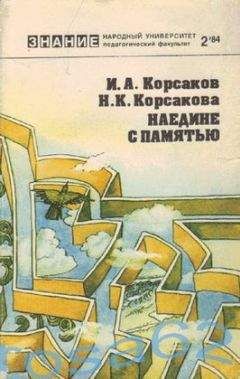не совсем понимаю. Разве ты забыла про должок?
Она и потом говорила — «должок». А тогда объяснила: карточный долг — самый благородный и обязательный. Я и без нее об этом знала: читала, слыхала, но такие долги были в старину, у настоящих картежников, при чем здесь я?
На работе никто не знал о моем проигрыше. Полине незачем было распространяться. Но я все равно жила в постоянном страхе. Карточный долг! В дурном сне не могла присниться такая беда. Жизнь превратилась в пытку. Я краснела, когда кто-нибудь задерживал на мне свой взгляд, и вздрагивала, когда меня вызывали к редактору или в секретариат. Все время ждала: «Как это ты, молодой специалист, вляпалась в такую историю?»
Раз в месяц вместе с другими долгами я выплачивала Полине и часть «должка». Полина, как я потом заметила, не очень спокойно относилась к этим деньгам: хмурилась, когда брала их у меня, отворачивалась, когда совала в карман. Мне все время казалось, что играет она со мной в какую-то затянувшуюся дурацкую игру и вот-вот прервет ее и вернет «карточные» деньги. Но Полина об этом не помышляла, а меня не сразу, а месяцев так через пять потащило и закрутило в омуте долгов.
Это на словах звучит ровненько и разделенно: этот долг за квартиру, этот за картошку, а этот — часть «должка». В жизни же все было по-иному: долги налезали на долги, я у одних занимала, другим отдавала, продала часы, летние платья (была зима), а потом и одеяло и даже чемодан. Допродавалась до того, что Полина сказала:
— Что тебе в этой газете? Заболеешь, подохнешь, и никто не вспомнит. У тебя же диплом. Тебя запросто в столовую или в магазин возьмут.
— Не возьмут, — возразил Коля, — у нее подготовки практической нет и кость тонка, туда покрепче персонал нужен.
И тогда я ринулась за помощью к единственному человеку, который способен был мне помочь. Помочь и не разгласить тайны. Сказать: «Дурная голова». Без упреков: «Как ты могла, работник газеты, дипломированный воспитатель молодого поколения!..» Мама не поверила признанию в моем письме, что я потеряла деньги, ее сразу насторожили слова: «Одолжи мне побольше, сколько сможешь, я скоро отдам…» Мама приехала и сказала Полине: «Подавись теми, что взяла, а об остальных деньгах забудь. Это не долг, это грабеж. И не вздумай ни у кого искать сочувствия. Иначе будешь иметь дело со мной! Я за свою родную единственную дочь жизни своей не пожалею, а тебя на чистую воду выведу!» Что у мамы хорошо получалось — это угрозы. Мне она в детстве как-то пригрозила: «Будешь обманывать, рог на лбу ночью вырастет. У всех вырастает, кто врет». Я поверила и частенько по утрам проверяла ладонью лоб. Почему-то не смущало меня, что вокруг такое правдивое человечество: ни у кого, ни на одном лбу даже намека не было на самый малюсенький рожок.
Я никому потом не рассказывала о своем карточном долге, боялась, что друзья мои посмеются, посчитав эту историю хоть и достойной сочувствия, но в то же время и смешной. А мы ведь вспоминаем о своих несчастьях, не рассчитывая на смех. Но когда Томке исполнилось четырнадцать лет и в ней стал проявляться мой характер, я решила ее уберечь от подобных переживаний в будущем и рассказала. Это был рассказ с четким назидательным сюжетом: к чему могут привести бездумность, азарт и уверенность, что все люди добры и порядочны. Томка выслушала меня внимательно и возмутилась. Нет, не Полиной — мной.
— Зачем ты выплачивала этот «должок»? — набросилась она на меня. — Надо было спокойным голосом сказать этой Полине: «Ну уж, извините, этот номер у вас не пройдет!»
— А честь?! Это же был долг чести!
Томка зашлась в смехе:
— Ну ты просто не мать родная, а какой-то старинный гусар! Какая такая честь? Она же тебя грабила среди бела дня, разве можно говорить о чести с грабителями?
Она меня смяла, моя Томка, откуда она это знала?
— Откуда ты это знаешь?
— Ниоткуда. С этими знаниями рождаются.
— Извини. Все не рождаются. Многие живут и о подобных грабителях не подозревают.
— Это пока их самих не затрагивает, — объяснила мне Томка, — а как только грабитель кого-нибудь лично тронет, то сразу и вопят, и возмущаются, письма в редакции шлют, судятся. Ты прямо с луны свалилась.
А мне показалось, что это она спустилась ко мне с какой-то планеты, где дети рождаются мудрыми, как Сократы.
— Томка, — сказала я, — а может, я зря кого-то виню? Может, Полина была просто жадной, а я — просто трусливой?
— Не исключено, — надменно произнесла Томка. — Хватит об этом. Не смогла тогда постоять за себя, так теперь уж нечего философствовать. Забудь об этом. Забудь навсегда.
— Может, разыскать их? Письмо написать?
— Напиши, напиши! — Томка уже подозревала, что весь этот разговор и затеялся ради письма. — Пригласи их в гости. Москву покажешь. В картишки с ними перебросишься. Только меня куда-нибудь отправь. Я их видеть не желаю.
Она протестовала, а во мне разгоралось желание узнать, как живут Поля с Колей.
— Знаешь, сколько сейчас их Маше? — сказала я Томке. — Двадцать один год. Я ее плохо помню, но была она симпатичная, глаза как звездочки, и вся такая длинненькая, плавная, как лента.
Томка это слышать не могла:
— Теперь еще и Маша! Мама, мне вредно столько твоего прошлого на один прием. Сажаем Машу в ящик письменного стола и задвигаем.
Потом Томка с годами стала понаивней и помягче, но тогда, в четырнадцать и в пятнадцать лет, уж она меня образовывала и воспитывала.
— Ладно, ладно, дочь Тамара. Буду вспоминать их беззвучно, про себя.
* * *
…Темно-вишневая говяжья печень лежит в тазу в сенях. Дух от нее парной, и по запаху слышно, что печень еще теплая. Коля стоит с засученными рукавами у стола, режет лук, с толстых его, по-детски безмятежных щек скатываются слезы. Полина растапливает печь. Я вхожу, и она спрашивает:
— Печень на твою долю жарить?
— А сколько за полкило?
— Не дороже денег.
Печь полыхает. Запах жареной печенки щекочет горло. Шкворчащая сковородка устанавливается посреди стола. Коля начинает вздыхать и стонать еще до еды. Поля не одобряет его нетерпения и говорит:
— Не мычи, сейчас все есть будем, на базар я эту печенку не понесу.
Мы едим быстро и жадно, только Маша скучает. Щеки у нее, как у хомяка, забиты сдой, она не жует, а словно дремлет с открытыми глазами.
— Жуй, — приказывает ей Полина, — глотай. Видишь, как папа старается?