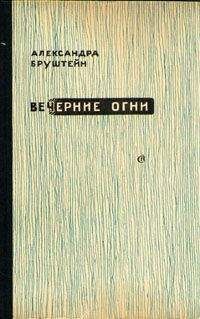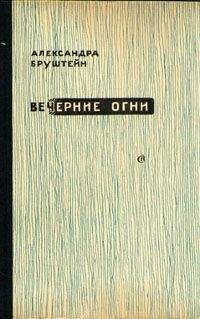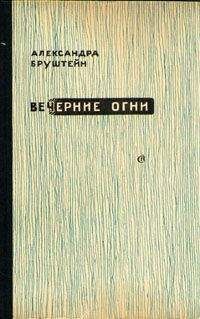Что отвечать ей на это? Что папе эти «живые рубли» достаются вовсе не так легко, как ей кажется? Что хотя папа работает тяжело, но он с радостью отдаст последнее, чтобы только, как он говорит, вооружить своих детей знаниями? Нет, как ни мало я знаю жизнь и людей, я все-таки соображаю, что вести такие разговоры с мадам Бурдес, Суперфайн и Компания неумно: она просто не поймет. Как говорится: не всякому носу рябину клевать, рябина — ягода нежная.
— Мадмуазель Яновская… — говорит она после паузы. — А можно самой заниматься английским языком с моими девочками? Можно это?
— Конечно, можно, — разрешаю я. — Занимайтесь.
— Ох, что она говорит! — смеется мадам Бурдес. — Чтобы я сама занималась… Миленькая, я не умею по-английски. Мне это не нужно! Где рот, где ложка — это я найду и без английского языка. Нет, я предлагаю вам, чтобы вы давали уроки моим Таньке и Маньке. Согласны вы?
— Ну-у-у… — бормочу я, ошеломленная. — Я же не англичанка. Я знаю только то, чему меня учили…
— Будем говорить, как серьезные люди, — предлагает моя собеседница. — Вас уже три года учат английскому языку. Ну, пусть мои Танька и Манька узнают хотя бы то, что вы знаете! Я вам предлагаю: занимайтесь с Танькой и Манькой по одному часу ежедневно — три раза в неделю с Танькой, три с Манькой. Вместе их учить нельзя: Таньке четырнадцать, Маньке восемь. И головы у них какие-то разные: что одна понимает, другая — ни бум-бум. Учить их вместе — выброшенные деньги. А платить я вам буду — ну, скажем, восемь рублей в месяц… Мало? Ну, девять рублей в месяц. Это приличная цена, не торгуйтесь со мной!
Мне, конечно, и в голову не приходит торговаться. Девять рублей в месяц кажутся мне сказочной суммой. Но я очень взволнована — вот она, самостоятельная деятельность! — потому и молчу.
Мадам Бурдес истолковывает мое молчание как несогласие и спешит поставить точку:
— Ну хорошо: окончательная цена — десять рублей в месяц. Каждый день по одному часу, да? Вы же должны сами понимать: мой муж не доктор, он не может швырять деньги в окошко… Доктор сам работает, ни от кого не зависит — что заработал, то заработал. А у моего мужа рабочие. Хотят — работают, а не хотят — так бастуют, чтоб они сгорели! Тьфу на них, паршивцев!
Договариваемся еще: начнем уроки завтра, в шесть часов вечера.
— Мы живем от вас в двух шагах: Жандармский переулок, собственный дом.
Совершенно растерянная после этого разговора, возвращаюсь в столовую, где мама, папа и Сенечка сидят за вечерним чаем, и с ними — только что пришедшая «слепая учительница» Вера Матвеевна.
Рассказываю о предложении мадам Бурдес. Мама и папа смеются.
— Ты отказалась? — спрашивает мама.
— Согласилась…
Мама обижена:
— Даже не посоветовалась с нами!
Папа останавливает ее:
— Минутку, Леночка! Тут надо поговорить о другом. Ты согласилась на это предложение, завтра тебе уже не будет пути назад: обещалась — свято! Но сегодня можно еще подумать. И я хочу, чтобы ты подумала серьезно. Подумай, Пуговка!..
В серьезные минуты папа иногда называет меня этим именем моего детства.
Папа продолжает:
— Я Бурдесов лечу уже лет пятнадцать. Это очень неприятный дом. Сама мадам — ты с ней сейчас говорила по телефону — совершенная психопатка. Был случай — при мне! — она за что-то разъярилась на мужа и вышвырнула из окна — прямо на улицу! — все его белье и платье. Как-то она распалилась на своих дочек, на Маньку и Таньку — а они милые, несчастные девочки! — и выплеснула им в лицо и на голову огромную бутыль канцелярских чернил… Подумай, Пуговка, подумай сегодня. Хлеб у тебя там будет не легкий!
— Да ну его, этот хлеб! — чуть не плачет мама. — Подумаешь, она без хлеба сидит. Откажись, пока не поздно. Скажи им сейчас же по телефону… Извинись перед ними… Скажи — не можешь у них преподавать: мама и папа не позволяют. Ступай звони!
— Вы меня извините. Конечно, я вмешиваюсь не в свое дело, — говорит вдруг Вера Матвеевна. — Но все-таки я хочу сказать… Подойди ко мне, Сашенька, дай мне руку, чтобы я тебя чула (чувствовала, слышала)… Не надо ее отговаривать, — обращается она снова к маме и папе. — И не надо бояться, что ей будет трудно. Ну конечно, трудно, а как же иначе? В жизни почти все трудно! И не надо этого бояться… Да, Сашенька?
— Да, — говорю я, глядя на ее мертвые, слепые глаза (а она ими видит все, все!). — И ведь я уже взялась, слово дала… А потом — мне интересно!
Занятые разговором, мы совсем позабыли, что с нами за столом сидит Сенечка. Он слушает молча, с приоткрытым ртом — признак сильного волнения. Больше всего он поражен тем, что мадам Бурдес облила своих девочек чернилами! Когда я говорю, что все-таки буду заниматься с девочками и пойду завтра на первый урок, Сенечка бурно обнимает меня и, воинственно грозя кому-то кулаком, выпаливает:
— Пусть она только попробует… чернилами! Я сам пойду завтра с тобой.
Это «завтра» оказывается с самого утра таким многотрудным днем, что я не забуду его, вероятно, до самой смерти!
Утром прихожу в институт. Меня уже дожидается внизу, в вестибюле, Люся Сущевская. На ней, как говорится, лица нет.
Бледная, вся дрожит.
— Ксанурка… — бормочет она. — Ксанурка…
— Что-нибудь случилось? — пугаюсь я.
— Беда, Ксанурка, беда!
Больше Люся ничего выговорить не может.
Я понимаю: случилось что-то серьезное. Из-за каких-нибудь пустяков Люся трагедий разыгрывать не станет. Значит, стряслось что-нибудь плохое…
С разрешения Данетотыча мы забираемся в его каморку под лестницей. Я слушаю рассказ Люси с огорчением, даже со страхом. От рассказа пахнет близкой бедой.
Сегодня утром один из жильцов, снимающих комнату в квартире Сущевских (мы его не любим — он злой, неприятный человек), подал Люсе пакет, завернутый в газету и перевязанный шпагатной веревочкой.
— Почитайте, Людмила Анатольевна! — сказал он с кривой усмешечкой. — Очень интересная книга. Про Карла Маркса. Слыхали о таком?
Люся ответила, что не слыхала: не с таким же человеком говорить о Марксе! Но этот разговор с жильцом происходил при Люсиной матери, Виктории Ивановне. И Люся не решилась оставить дома, в свое отсутствие, такую книжку, наверное запрещенную. Виктория Ивановна знает от кого-то, что Маркс — «это ужас как плохо! За такую книжку „Люсеньку могут исключить из института“!» Если бы Люся оставила книжку дома, Виктория Ивановна непременно приняла бы свои меры: уничтожила бы книжку, изорвала, сожгла в печке, — и это еще был бы не худший исход. Но могло быть и так: Виктория Ивановна могла показать книжку знакомому священнику (а священники вот уже года два как задают на исповеди вопрос: «Запрещенных книжек не читаете ли?»). Тут уж нам всем был бы «аминь!» — исключение из института. Поэтому Люся ушла из дому, унося книжку с собой. Но, боясь взять книжку в институт — нас тысячи раз предупреждали и Александр Степанович, и Шнир, и Разин, и Гриша Ярчук, что этого делать ни в коем случае нельзя — Люся собиралась по дороге оставить книгу у Вари Забелиной.
Однако Вари не было дома — она уже ушла в институт. А оставить книжку у Вариной бабушки, Варвары Дмитриевны, Люся побоялась. Словом, Люсе не оставалось ничего иного, как нести книгу с собой в институт. Это была неосторожность. И Люся знала, что от этого можем сильно пострадать мы все. Но другого выхода у нее не было.
От страха ли перед синявками — ведь если бы кто-нибудь из них обнаружил запрещенную книгу, что бы тут поднялось! — но вид у Люси в этот день был особенно «неблагонадежный». Она мчалась по коридору, с перепугу потная, растрепанная (а Люся всегда очень аккуратно одета и причесана!), — она торопилась добежать до класса, как будто за ней гонится свора преследователей. Ну и, конечно, — надо же такое! — в коридоре Люся налетела прямо на Ворону. Та ни о чем Люсю не спросила, только, по своему обыкновению, зловеще тряхнула головой. Люся стремглав влетела в класс — там никого не было, — и, чтобы не бежать до своего места (Люся сидит на последней парте), она бросилась к одной из первых парт — это оказалась моя! — и быстро сунула пакет с книжкой о Марксе в ящик моей парты. Сделав это, она вздохнула с облегчением, оглянулась и, похолодев от страха, увидела в дверях Ворону…
— Это ваша парта? — проскрипела Ворона.
— Н-н-нет…
— А чья?
— Яновской.
— Хор-р-рошо!
Одна только Ворона умеет так каркнуть «Хорошо!», чтобы всякому послышалось: «Карр-раул! Гр-р-рабят!»
— Извольте выйти из класса! — скомандовала Ворона.
Пропустив Люсю в коридор, Ворона вышла следом за нею и, подозвав служителя Степу, приказала ему запереть дверь в наш класс на ключ. После того как Степа исполнил ее приказание, Ворона куда-то улетела. Наверное, вид у нее был довольный, как у пушкинского ворона, который с аппетитом мечтает: