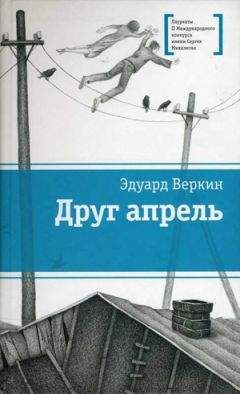Огонек погас, но Аксён преспокойно добрался до нужной двери. Снял фонарь, щелкнул. Свет.
Гараж был пуст, разводы масла по бетону, возле гаражных ворот лежал Тюлька. На спине. Левая нога была зажата в капкан, но не ступней, а как-то дико, коленом. Тюлька не двигался, лежал, будто спал.
Аксён осторожно приблизился, поставил фонарь рефлектором вверх, бухнулся на колени. Крови не было. Капкан сжал колено, сдавил его, штаны разодрались, кожа собралась в синеющую гулю. Тюлька дышал.
Аксён хотел хлопнуть Тюльку по щеке, пробудить, но передумал. Капкан большой, наверное, волчий, взялся в ногу весьма неудачно. Аксён осторожно повернул брата на бок. Капкан лязгнул по бетону. Наступил на скобу, челюсти, щелкнув, разошлись. Аксён отбросил капкан в темноту.
Хлопнул Тюльку по щеке.
Тюлька открыл глаза. Аксён думал, что брат закричит, но он только сказал:
— Больно. Упал… За ногу укусило…
Болевой шок. Точно. Он должен орать, биться, ногами дрыгать, а он ничего. Одурел совсем.
— Ерунда, — хмыкнул Аксён. — Ударился — и все. Стукнулся. Сейчас пойдем…
Он зажал фонарик зубами, ручка резиновая, не пластмассовая, держать удобно, свет теперь бил перед собой, Тюльку не видно.
— Теперь не шевелись.
Аксён подсунул руки под Тюльку и поднял его.
Тюлька был легким.
Дождь не прекращался уже восемь дней. Тюлька грустил, сидя у окна, потом ему надоело и он, обернувшись как следует целлофаном, выскочил наружу, носиться.
Вернулся с насморком. Тогда Аксён рассказал про мокрушников. В лесу, в болоте, в самом центре болота живут мокрушники — мертвецы, которых когда-то затянула трясина и ожившие через шестьдесят шесть лет, они ненавидят солнце и напускают непогоду. Если дождь идет больше шести дней, то его напустили мокрушники. И они ждут — там, в глубине дремучих логов, когда кто-нибудь осмелится сунуться в их сумрачные владения.
Ну, а что они делают с теми, кто осмелился, общеизвестно, судьбе их не позавидуешь. Тюлька испугался и на улицу больше не ходил, все дожди собирал из разрозненных деталей пластикового конструктора суперкрепость. Аксён переждал четверг, день, когда дождь лил слишком сильно, и отправился в город. Он, как и Тюлька, обернулся полиэтиленом, надел сапоги и на восток.
Он шагал через воду и грязь, совсем не мерз, в целлофане было даже чуть жарковато. За три километра от города его подобрал лесовоз.
Город был пуст, в дождь здесь пойти некуда, улицы отданы воде, падающим листьям, и влажному шороху.
Она ждала его.
Сидела на крыльце, грызла семечки. Рядом свеча в пластиковой бутылке, горела плохо, огонек дрожал и старался погаснуть.
Каждый раз, когда он приходил, она ждала его, ну, во всяком случае, так казалось Аксёну. Вот и сейчас, выскочила под дождь, прошлепала по скользким доскам, остановилась, улыбаясь.
Аксёну вдруг захотелось ее поцеловать, но он удержался, вернее, постеснялся, они некоторое время глупо стояли под водой, держась за руки и глядя друг на друга. Потом Аксён услышал, как у Ульки стучат зубы и потащил ее на крыльцо.
Они сидели на ступенях, глядя, как ручьи собираются в речки, слушая капли по крыше, молчали. Он сидел на две ступени выше, смотрел на ее шею и думал, как это здорово — вот так сидеть и смотреть.
Показался отец Ули, Семиволков-старший, дядя Федор. Уселся рядом и принялся курить и рассказывать о медведях. В последнее время в округе появились медведи, много, словно вынырнули откуда-то. Валяют овсы, пугают фермеров и рыбаков, всяко безобразничают.
Улька сказала, что это хорошо, это значит, что природа восстанавливается, несмотря ни на что. И рассказала про то, что в их классе один мальчик видел, как медведь ночью ходит по городу и пугает. Ульяна выставлила босую ногу под дождь и засмеялась.
И Аксён тоже что-то рассказал, какую-то ерунду про Тюльку. И про то, как Чугуна избила зонтом его гёрл-френд Руколова, да так, что даже швы пришлось накладывать.
И они вместе смеялись.
А дядя Федор сказал, что быть молодым хорошо.
А потом они пили чай. Прямо на крыльце. До самой темноты. А когда из углов поползли сумерки, в огороде вдруг заквакали лягушки и это тоже было смешно.
Он отправился домой уже после семи, Ульяна дала ему в дорогу зонтик — и они опять посмеялись.
Дождь не усиливался и не прекращался, распространялся однородным водяным туманом, укрыться от которого было невозможно. Уже за городом Аксён свернул зонтик и шагал теперь так, быстрее получалось, все равно промок, только на спине остался приятный островок сухости.
Добрался до Неходи. В ботинках хлюпало, вода концентрировалась на штанинах и стекала, теплая, но все равно неприятно. Неходь лежала в бледно коричневой мгле, тут всегда было так, ни дождь, ни вечер в этом не были виноваты, получалось так от опилок, Гималаями возвышавшимися вокруг. Когда-то в Неходи процветал деревообрабатывающий комбинат, состоящий из нескольких лесопилок и погрузочного дока, лес свозили со всей округи, разделывали и грузили в вагоны. Постепенно вокруг комбината росли опилочные горы. Их отгребали в стороны, жгли в котельной, засыпали в болота, но меньше не становилось, и со временем Неходь оказалась окружена настоящими опилочными терриконами.
Потом комбинат разорился, а опилки остались. Их все время кто-то собирался купить — то японцы, то финны, то австрийцы, но цены скряжистые капиталисты не давали и горы продолжали гнить, наполняя воздух странными запахами и загадочным розовым сиянием. По слухам, это сияние вкупе со сладким воздухом неблагоприятно воздействовало на сознание, поэтому в Неходи жили немногие — смотритель разъезда с немногочисленной семьей, участковый Савельев с семьей обширной, и старый сторож стратегического паровозного резерва — другой местной достопримечательности.
Паровозов было много, наверное, сотня. Они стояли законсервированными, и ждали своего часа на запасных путях, в тюлькином возрасте Аксён здесь частенько играл. Лазил по машинам, представлял себя машинистом. Да и Тюлька тоже сюда сбегал регулярно, он даже утверждал, что может при необходимости легко угнать любой паровоз, только ему надо сделать специальную железную клешню, поскольку дотягиваться до большинства ручек самостоятельно он еще не может.
Аксён решил залезть в паровоз. Он выбрал машину в центре и вскарабкался по лесенке. Кто-то тут уже жил — внутри имелась самодельная долгоиграющая печка, небольшой запас дров и котелок. Аксён, подумал, что Савельев совсем не следит за тем, что происходит у него под носом, развел небольшой костерок, и стал греть руки. Сушиться было бесполезно, Аксён и не пытался, просто грелся.
В железной банке отыскались две деревянные карамельки, Аксён сгрыз их и почувствовал себя лучше. Он устроился поудобнее, вытянул ноги и стал греть их, не снимая обуви. Сумерки за окном сгущались в розовые сливки, наблюдать за этим было здорово и уютно, Аксён задремывал, а просыпаясь, отмечал голоса, и, кажется, музыку. Во всяком случае, какие-то звуки, Аксёну казалась губная гармошка.
Печка скоро все-таки прогорела, и железное пространство начало остывать, Аксён стал мерзнуть, и музыка слышалась уже более отчетливо. Гитара, не гармошка, Аксён высунулся наружу. Неподалеку в паровозе от дождя спасались туристы — под тендером валялись свернутые палатки и полуразобранные байдарки, рюкзаки, в кабине горела керосиновая лампа, будут сплавляться к Волге. Кто-то пел песню.
Вьюн над водой.
Хорошо так пел, Аксёну сразу повеситься захотелось. В конце особенно было тоскливо, ну, когда жених у ворот стоит, улыбается. Аксён и раньше эту песню слышал, и всегда думал — с чего это вдруг этот жених улыбается? Неспроста ведь. Улыбается, точно какую-то гадость совершить задумал. А может, уже совершил.
После песни про неоднозначного жениха, гитарист принялся бренчать развеселую туристическую, про то, что дом — это не стулья со столом, а счастье в дороге. Эта дурацкая песня сразу все испортила, Аксён не любил туристов, они были слишком жизнерадостными.
Он выбрался из паровоза в дождь и отправился домой. Оставалось в общем-то чуть километров, Аксён шагал по раскисшей дороге и думал, что сочинитель песни был совершенно не прав — дом — это как раз стол, стулья и стены.
— Все… — Чугун остановился. — Все, спина, не могу…
Он положил Тюльку на землю.
— Двадцать столбов осталось, — Аксён указал на номер. — Давай еще хотя бы пять.
— Не, — Чугун сел на насыпь. — Скрючит…
— Разотрешься. Руколова тебе массаж сделает.
Чугун помотал головой.
Врет, подумал Аксён. Врёт, собака, ничего у него не болит. А у Тюльки колено распухло уже хорошо. И посинело.
— Я не могу, я тебе серьезно говорю…
Чугун продемонстрировал бледную поясницу с красными прожилками. Аксёну захотелось как следует пнуть его в эту поясницу, чтоб полетел он с насыпи, кувыркаясь, калека.