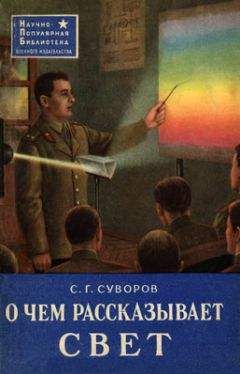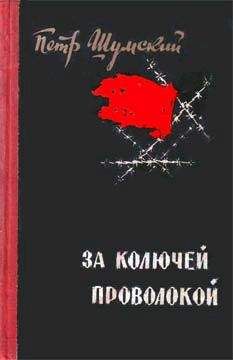Пробуя левой ступней асфальт — хорошо ли для толчка? — Толик спросил:
— И не лень было следить за мной?
— Да что ты, дядя. Случайная встреча...
— И что теперь «дядя» вам должен? «Кошелек или жизнь»?
— Видели мы твой кошелек в...
— А это видели? — быстро спросил Толик и поднял левую руку, держа пальцы щепоткой — словно хотел что-то посолить в воздухе. У клетчатого типа приоткрылся рот и машинально вскинулась для защиты ладонь. Толик ухватил его за рукав, дернул на себя, ударил гада головой под грудь и кинул его, согнувшегося, через плечо.
Кинул так, чтобы длинное обмякшее тело ударило сзади другого противника.
Наверно, тот все же успел отскочить. А Толика стукнула в щиколотку какая-то деревянная боль. «Неужели вывихнул? Ах ты черт... » Теперь оставалось развернуться и встретить смазливого сопляка прямым ударом в зубы. Придется мальчику походить к дантисту. Ну, сам винов...
Что-то колючее, длинное вошло Толику под левую лопатку, и боль была такая, что не осталось мыслей. Толик хрипло вскрикнул, рванулся вперед и снял себя с этой боли, как с гвоздя. Хватанул ртом воздух. «Достали все же, сволочи! Ну, погодите... » Он стал поворачиваться для удара. Боль мягко угасала, но не было зато и прежней пружинистой силы. Руки противно ослабели, и Толик с беспомощной злостью подумал, что, кажется, уже не свалит чернявого одним ударом... Самому бы устоять... Ах как глупо... Перед самым выходом в море. Теперь, чего доброго, ещё в больницу засунут, перевязки всякие...
Хорошо, что Гай улетел...
Странно, что асфальт мягкий, как губчатая резина: падаешь, а не больно. Будто во сне... Надо все-таки встать. Люди увидят, решат черт знает что...
Но лежать было хорошо. Шевельнешься — и колючая боль, а если не двигаться — обволакивает мягкое спокойствие. И Толик понял, что надо подождать несколько минут, набраться сил.
Лампочку он не видел — она или погасла, или горела с другой стороны. Те двое куда-то исчезли. Но Толик о них уже не думал. Сверху в просвет между киосками и забором смотрел тонкий месяц.
«Ты меня не бросай, — сказал ему Толик. И не удержался, ласково поддразнил: — Месяц тонкий и рогатый с неба звезды сгреб лопатой... Куда ты девался, а?.. Месяц звонкий и рогатый... Месяц... »
Ничего этого Гай знать не мог, и никаких предчувствий у него не было. Спокойный и счастливый летел он домой.
... Известие о Толике придет в Среднекамск лишь через четыре дня. Это потрясение, первое в жизни настоящее горе надолго обесцветит для Гая все, что есть вокруг, приглушит до хрипа и шепота все в мире звуки, а все мысли сведет к горькому вопросу: «Как же так: был — и нет? Почему? Откуда на свете такое?» Этот его вопрос навсегда свяжется в сознании с почерневшим сухим лицом бабушки — мамы Толика...
Дни пройдут, мама и бабушка вернутся оттуда, с похорон, и мама положит ему руку на лоб, а он тихо скажет, лишь бы что-то сказать:
— Вы быстро приехали...
— У нас были обратные билеты.
И тогда болью и страхом — сильнее всех других горьких мыслей — прошьет его мысль: «А у Толика тоже был обратный билет!»
Он был! Но Толик выронил его вместе с другими, когда доставал платок.
А доставал платок он, чтобы вытереть Гаю лицо и потом завернуть гранату.
Значит — всё из-за гранаты!
Если бы билет остался, Толик поехал бы обратно на автобусе, не оказался бы на вокзале. Не встретился бы с теми.
... Какой прок, что их поймали и, скорее всего, расстреляют? Что с того, что друзья Толика написали куда-то письмо, чтобы новое гидрографическое судно назвали «Анатолий Нечаев»? Смертью бандитов не оживишь Толика. Имя не заменит живого человека, хоть весь флот назови этим именем! Гаю нужен живой Толик — который смеется, опаздывает со свиданий, рассказывает про Крузенштерна, дурачится, дразнит Гая за облупленные уши и рычит «брысь», когда тот надоедает... Толика не будет...
И всё из-за гранаты...
Из-за того, что он, Гай, взял гранату из тайника!
Днем и ночью, даже во сне, Гай будет вести этот бесконечный, отчаянный и безнадежный спор с собой:
— Но я же не знал, что так случится!!
— А кому легче от того, что не знал? Все равно это из-за гранаты.
— Но я же не знал...
— А зачем ты ее взял? Ведь понимал же, что обман...
— Не обман!! Сержик сам говорил: хочешь — бери себе!
— Обман был раньше. Тогда, когда все искали, а ты молчал. С этого все и пошло...
— Но я же не взял тогда! Я же признался! Я — честно...
— Значит, не всякую беду можно исправить признанием... Ты не взял тогда, но ома лежала, ждала своей поры. И отомстила.
— За что?! — в отчаянии будет кричать он себе. — За такой пустяк?! И кому отомстила?! Толик-то при чем?!
— А она не думает. Она — граната...
И когда уже не будет сил, когда сердце станет останавливаться от тоскливой вины, придет спасительная мысль:
«А откуда ты взял, что был обратный билет? Ты спросил, а Толик в ответ: поехали, поехали... »
«Но он же говорил: теперь обратно придется ехать на электричке... »
«Может, потому, что сперва хотел вернуться в Севастополь на такси, а денег не осталось — истратили на дорогу вперед... »
Может быть, и так... Но утешение будет приходить не надолго. И ощущение неискупимой вины снова станет наваливаться глухой черной тяжестью. Такой вины, которая не менее страшна, чем само ощущение потери.
Через месяц Гай уже не станет спорить сам с собой. Зачем? Все сказано много раз. Не станет мучить себя вопросами: был ли билет? Ответить на вопрос мог бы один Толик. Но он не ответит — и вину с Гая не снимет никто.
Гай будет ходить в школу, учить уроки, получать отметки. Будет даже смотреть иногда телевизор, отвечать на мамины вопросы. Порой будет даже улыбаться. И всем, даже маме, станет казаться, что он понемногу успокоился и живет нормально.
И никто не узнает, как гонит от себя Гай память об августовских и сентябрьских днях. Память о всем, что раньше было для него Островом. Потому что горе и вина закрыли к Острову дорогу.
И так будет до того дня, когда Юрка (именно Юрка, а не кто-то другой) приведет его к себе домой и скажет угрюмо и жестко:
— Гай, ты так свихнешься. Или умрешь... Гай! Ты что?
— А что я? Я...
Слезы рванутся безудержно. Слезы — невыносимые, изматывающие душу, тяжкие, как рвота. До судорог в горле, до крика. И в этом крике прорвутся слова о Толике, о гранате, о билете... И Юрка захлопнет дверь и яростно, словно удерживая Гая от броска в пропасть, прижмет к себе.
— Гай... Гай!! Ну при чем здесь ты?! При чем здесь мы?! Не мы же придумали на свете гранаты!
Гай стихнет, вздрагивая. Юрка скажет:
— Так нельзя. Ты живи.
Гай то ли вздрогнет опять, то ли кивнет...
— Ты живи, — снова скажет Юрка. — Дерись.
— С кем?
— Вообще... дерись.
И Гай станет драться. Всю жизнь. За себя и за других. Драться с человеческими бедами и со своей виной — не зная до конца, была ли она. Драться за право изредка возвращаться на свой Остров.
Такой Остров есть у каждого, и потерять его — подобно смерти. Остров называется Детство.
Конец второй книги