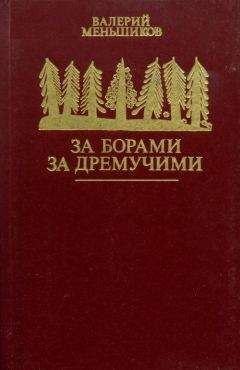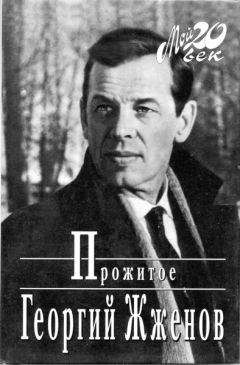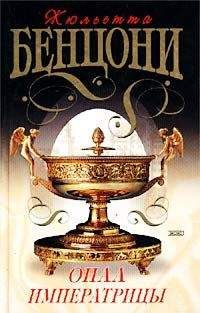А за окнами, в палисаде, постанывала от мороза черемуха, скреблась о стекла стылыми ветками. Уходил прочь последний месяц сорок пятого года…
Приехала мать глубоким вечером. И недалеко по местным меркам райцентр от нашего поселка — всего каких-то полста километров, — но без приключений их не осилишь. Да и позднеавгустовские дожди изрядно подквасили дорогу. А у латаной заводской полуторки, что у ленивой кобылы, у каждого поворота причина для остановки найдется. Так что пассажиры порой пешим ходом быстрей добирались, оставляя шофера бедовать на пару со своей машиной. Столь дряхлой и ненадежной, что ее и на фронт брать отказались.
Мать мы ждали в тайной надежде, что привезет она прозрачные, похожие на радужные стеклянные осколочки, леденцы, клюквенный напиток в бутылках, а может, и ржаные пряники. Все-таки райцентр, а не забытый богом глухой таежный поселок. И вот мать приехала, и мне с братьями нежданно-негаданно подфартило. Открыла мать свою старенькую сумку, купленную, видно, еще в счастливые довоенные годы, и высыпала что-то бабке в передник. А что, я сразу и не понял. Терпко-медовый аромат увядающих лесных трав властно перебил все запахи нашей кухни, наполнил меня радостно-тревожным волнением.
Откуда, из каких заморских краев появилось оно здесь и легло мне в ладонь? Теплое, с тонкой прозрачной кожурой, до отказа напоенное яркими красками осени. Я ласкал крутой малиновый бочок, принюхивался к неведомому аромату.
— Смотри-ка, чудеса да и только! Должно быть, добрые руки обхаживали яблоньку, я от одного запаха пьяная стала, в голову так и ударяет. Кажись, с четырнадцатого года таких не видала.
Бабка склонилась над фартуком, прикрыв на миг свои отбеленные временем глаза.
— И я не поверила. Уже совещание закончилось, а тут заведующий районо и объявил: по килограмму в руки. И деньги к случаю погодились, — виноватится мать, что не смогла привезти яблок больше.
Выдав нам по яблоку, бабка остальные бережно увязала в платок и убрала в сундук. Не все сразу. По ломтику с утренним чаем — и взрослым диковинки отведать хочется. Я с завистью гляжу, как впиваются зубами в сочную мякоть мои братья, глотаю слюну, но надкусить свое яблоко не решаюсь. Хочется отдалить этот миг, продлить ожидание. Да и разве можно вот так, с хрустом и чавканьем расправляться с неземной красотой.
Вечер тянется как во сне, братья подтрунивают надо мной, хлопают по взбухшему карману, где пригрелся солнечный фрукт — моя несъеденная пайка. Но я терплю, смотрю, как рассаживают они в кадушке с фикусом блестящие коричневые семечки, надеясь, что к весне проклюнутся те зелеными ростками. А мои семечки еще там, в медовой мякоти, за золотистой кожуркой. Не доверяю я братьям и все никак не могу придумать, куда же спрятать яблоко до утра, чтобы показать его друзьям, дать и им возможность полюбоваться необычным подарком.
Знаю, что не посягнут братья на мою долю — с этим у нас в доме строго, — и все равно боюсь чего-то, сторонюсь их, не отвечаю на беззлобные шутки. Наконец ныряю во двор, в душный августовский сумрак. Теплом отдает нагретая за день земля, ласкается к голым ступням бархатистая конотопка. Источенным рыжим оселком зависла над крышей ущербная луна. Света от нее почти никакого, и потому небо кажется замалеванным густой синей краской. Качаются в нем холодные голубые искорки, и где-то далеко-далеко, под этим же небом растут чудесные деревья — яблони, усыпанные сладкими плодами. Только там, конечно, и солнце жарче, и звезды намного крупнее — по кулаку, и воздух прогрет до теплой истомы. И все там, поди, не так. Ведь покрывается по весне бледно-розовым цветом в палисаднике наша ранетка, но яблочки у нее кислые, мелкие — чуть побольше горошин. И лакомится этой малосъедобной кислятиной всю зиму разная птичья мелочь. Нам же от этой ягоды утехи мало. Одна резь в животе.
Я мучительно думаю, где притаить яблоко до утра, потом решительно захожу в темный предбанник, где хранится берестяная растопка. Наощупь нахожу хрустящий завертыш, распрямляю его. Берестяная потайка с яблоком надежно умещается на полке, под самым потолком. Вот так будет надежней.
Спим мы все вповалку, на полу, застилая его старым тулупом и разной верхней одежонкой, укрываемся длинным суконным одеялом. Братья давно уже посапывают, а мой сон чуток и неглубок, я готов очнуться от любого шороха. И лишь под утро проваливаюсь в зыбкую пустоту, и гаснут в небе горячие звезды, а ветерок волнует теплым дыханием мое лицо. И вижу я на широком подворье дерево, так похожее на нашу ранетку, только ветви его ломятся от тяжести напоенных солнцем яблок. Я радуюсь, что их так много, хватит всем: моим братьям, ребятам с нашей улицы и даже взрослым. Не по ломтику к чаю, а по целому красивому яблоку. И еще сколько останется. Лишь бы все их собрать. И я тороплюсь, срываю одно яблоко за другим, но ветви все также гнутся от нелегких плодов…
Кто-то живущий во мне нашептывает, что все это сон и, едва я очнусь, придуманная мною картина исчезнет. Я ощущаю эту тревогу и не хочу просыпаться. Но сон, к сожалению, проходит.
Уже давно за окнами плещется яркий солнечный свет, постель рядом со мной пуста — братья с дедом еще с вечера уговаривались идти в лес за валежником. И на кухне пусто, нет на этот раз у печки бабки, какая-то нужда увела ее из дома. Примечаю на столе стакан молока, накрытый тонким ржаным сухарем. Мой завтрак! На одном дыхании выпиваю молоко, с хрустом дроблю зубами усохшую в печи корочку. Сухарь мне кажется бесконечным, потому что я не глотаю размокшие во рту крошки сразу, а сосу медленно, как леденец, продлеваю удовольствие, и это на какое-то время заглушает постоянно напоминающее о себе желание что-то съесть.
Во дворе тихо, тепло, уютно. Ночью прошел небольшой дождик, и теперь намокшие черные крыши парят на солнце, искрится каждой слезинкой густая мелколистная конотопка, янтарно светятся бревенчатые стены баньки и амбарушки. С огородов тянет горьковатым сытным дымком — дотлевает собранная в кучи и подожженная с вечера картофельная ботва. Вот и подкатило незаметно залетье, незабываемая пора листопада. Тополя на поселковых улицах, черемухи в палисадах стоят будто живые — налетит заблудший ветерок, и затрепещут каждой веточкой, теряя пожухлые листья, устилая ими песчаную землю. Август — месяц прощания с рекой. Цветет вода, лениво тянет течением зеленые хлопья. Матери нас пугают водяной чесоткой, но мы еще частенько нарушаем их запрет, в теплые полдники упрямо лезем в набравшую остуды воду, выискивая редкие чистые омуты. Но это уже скорее от бахвальства, от молодой всепобеждающей уверенности, что хвори придуманы для кого-то другого. И каждый день на закате лета нам в особую радость, в усладу нашей ребячьей жизни. Дни тянутся как липучий сотовый мед, на все хватает времени: набегаться до одури, побродить с корзинкой по лесу, выкопать в огороде заданную полоску. И все-таки томит тревожное предчувствие нудных обложных осенних дождей, грядущих холодов. Кажется, и улица затаила дыхание в ожидании скорых перемен, все вымерло, ничто не стукнет, не скрипнет… Нет, на нашей постоянной сборне у старой школы бунчат невнятно голоса. Значит, и мои друзья там — где им еще быть в такую пору. То-то удивятся они, когда я ненароком достану яблоко.
Наша сборня — широкая завалина на солнечной стороне школы, длинное здание которой опоясано невысокой огорожей из тонкого горбыля, забитой доверху рыжими перепревшими опилками. Древесная труха предохраняет нижние венцы школы и деревянный пол от промерзания в зимнюю стужу, а в осенние дни намокшие опилки «горят», хорошо греют наши костлявые зады, и мы частенько коротаем на завалинке время, говоря и споря о всякой всячине, но больше всего о недавней войне.
На приветном месте на этот раз собралось человек двенадцать. И мои закадычные дружки, Валька с Рудькой, здесь. Чуть в сторонке примостилась Парунька. Среди «чужих», не с нашей улицы, я сразу приметил похожего на выпавшего из гнезда взъерошенного галчонка Финку-Анфиногена, Костю Седого, прозванного так за белые, как взбитая овечья шерсть, волосы, и Веню Молчуна. Этот всегда на пару со своей думой. За день и словечка от него не услышишь. Как говорится, нашел — молчит и потерял — молчит. Но про себя Венька всегда что-то твердо знает, и это делает его для всех непонятным, даже загадочным, и мы с ним почти никогда не ссоримся, наоборот, готовы напроситься на дружбу. Еще на подходе услышал я въедливый голос Котьки Селедкова.
— А мой тятька сказывал…
Котьку пацаны не любили, за глаза и в глаза звали Селедкой и играть принимали в последнюю очередь, и то, если не хватало для ровного счета игроков. Все у Котьки было как-то наособицу, не так, как у других ребят. Какой-то плоский вдавленный меж висками лоб, морковного цвета брови, утиный нос, вислые губы и будто опаленные огнем ресницы-коротышки. И глаза на этом лице жили хитро, каждый сам по себе: то сбегались к переносице без причины, а то разбегались в стороны. Разговаривает Котька с тобой, а тебе невдомек: на тебя он уставился или высматривает что-то в соседнем проулке. В общем, и мы все красотой не блистали, а Селедку она и вовсе обошла стороной. Зато карманы у Котьки всегда были чем-то набиты, но мы старались не замечать, как он слюнявит палец, ныряет им в карман, а потом обсасывает налипшие на него белые крупинки сахара. Чтобы кто — не дай бог! — не попросил у него самую малость, Котька предусмотрительно носит в другом кармане щепотку серой соли, чтобы в любой момент ответить: