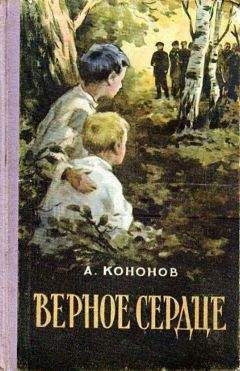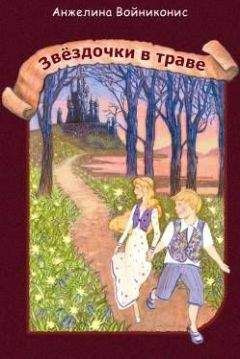А вот и сам Невинный всходит не спеша на ступеньки училищного крыльца; он в легком пальто с бархатным воротником, в фуражке с двойной кокардой. А лицо серое, нездоровое…
Мальчики поздоровались с ним по «уставу»: взяв головные уборы за козырьки и приподняв их на расстояние, какое полагалось, — ни больше, ни меньше. Арямову-то по-другому кланялись — от души! Да и старику Голотскому, если не от всей души, то с охотой.
А вот поклониться Стрелецкому… Нет, мимо — не хочется о нем и думать в такой пригожий день. Ну, сегодня Гриша освободится — отдаст рубль. Он подойдет к Виктору Аполлоновичу и скажет… Нет, не хотелось думать об этом!
…В тот день на уроке арифметики случилось событие, из-за которого Гриша чуть было опять не забыл про свой столь удивительным способом разросшийся долг.
Все началось с квадратного Кобаса, который ни с того ни с сего принялся на перемене скакать по залитым солнцем партам. Видно, человек по-своему хотел выразить радость: весна, скоро весна!
Дежурный Персиц умоляюще сложил руки, метнулся к порогу: не идет ли, на беду, учитель?
А пример Кобаса уже успел заразить других.
Никаноркин вскочил на заднюю парту и раздавил каблуком чернильницу. Потом на всем скаку сшибся с крепышом Кобасом, и оба покатились на пол.
Буйство охватило весь класс. Удерживались пока только всем известные тихони, но их было мало, да и они глядели на происходящее со скрытым восторгом. Шумов, конечно, в подобных историях не оставался позади других. Нет, он был впереди! Он прыгнул с первой парты на Довгелло. Вячеслав, спасаясь, помчался к дверям, и — дзыннь! — окрашенное в молочный цвет стекло с жалобным звоном брызнуло на пол.
Это уже беда!
Все разом стихли, оторопев. Не в стекле было дело: оно стоило всего пятнадцать копеек. Дело было в очевидном для всех — а значит, и для Стрелецкого — нарушении дисциплины. Разбитое стекло — это не пятнадцать копеек, это улика. Начнут теперь допрашивать: кто выбил, как, почему? Где виноватый?
Житейский опытный человек ответил бы на это: «Я нечаянно, споткнулся, ударил локтем, получите с меня, пожалуйста, пятнадцать копеек».
Нет, не было в приготовительном классе житейски опытных людей.
Там были мальчишки, жаждущие всяких событий и борьбы с опасностями.
Итак, беда. «Кто виноват?» — спросит надзиратель. И никто не скажет, кто виноват. Разве что дежурный Персиц? Нет, и дежурный Персиц не выдаст. Да и неизвестно, кто виноват: Довгелло? Шумов? Или Кобас — он первый принялся очертя голову скакать по партам.
…Когда на пороге возник Стрелецкий, все уже сидели примерно и чинно на своих местах, тише, чем всегда.
С минуту Виктор Аполлонович оставался недвижим: одна нога в лаковом штиблете отставлена в сторону, правая рука повелительно простерта вперед.
Недавно Лехович сказал про любимую позу надзирателя: «Наполеон накануне сражения».
«Наполеон»! Козел он теперь, а не Наполеон.
После минуты глубокого молчания Виктор Аполлонович воскликнул звучным баритоном:
— Кто?
Класс молчал.
— Кто разбил? — И он указал своей белой рукой на осколки стекла.
Снова все промолчали.
— Дежурный!
Вперед шагнул бледный Самуил Персиц и замер трепеща.
— Кто разбил стекло?
— Я, Виктор Аполлонович… я в это время был… я не видел.
— Второй дежурный!
С четвертой парты поднялся Земмель. Ну, этот даже среди латышей славился своим спокойствием и упрямством. По проходам между партами словно вздох пронесся. Уж Земмель-то не выдаст!
— Кто выбил стекло?
— Не видал.
— Так-с. Не видал? И не слыхал?
Земмель помолчал, как бы вспоминая. Потом поглядел прямо в глаза Стрелецкому и проговорил рассудительно:
— Нет, как же. Слыхал.
— Что же ты слыхал?
— Звон.
На пороге, рядом с Виктором Аполлоновичем, появился Голотский и сказал благодушно:
— Слышал звон, да не знаешь, откуда он?
Стрелецкий услужливо, с излишней торопливостью посторонился, пропустил инспектора вперед. Потом прошептал ему что-то на ухо и исчез.
Через минуту явился Донат, осторожно замел в совок осколки стекла.
На этом как будто все могло и закончиться.
Голотский раскрыл классный журнал, разгладил его рукой, поднял к потолку выцветшие глаза: как бы поинтересней начать сегодня урок? Он любил свой предмет; за это, вероятно, и ученики относились к нему уважительно — охотно прощали ему всякие насмешки и грубости. Ребята своими еще не защищенными сердцами хорошо чувствуют, когда грубость обидна, а когда она сказана не со зла.
Вот и сейчас — все сидели тихо на уроке и не из страха перед инспектором, а так уж повелось: зачем сердить старика?
Но вдруг в тишине прокатился легкий гул. Гриша увидел, что Довгелло торопливо перевязывает свою руку носовым платком. И платок уже весь намок кровью.
— Молчи, молчи! — предостерегающе шепнул Грише Никаноркин. — Молчи! А то Лаврентий заметит.
Вячеслав в это время уже спрятал перевязанную руку под парту.
Лаврентий Лаврентьевич ничего не заметил.
Он со вкусом откашлялся, потер свои руки с набухшими крупными жилами и начал:
— Итак, мы остановились в прошлый раз…
Но тут Довгелло слегка привстал со своего места, побледнел и, вскрикнув, повалился назад.
Испуганный Кобас подхватил его.
Гриша увидел бледное, мертвенное лицо Вячеслава, закрытые синими веками глаза, крикнул отчаянно: «Умирает!» — и кинулся к нему через весь класс.
Все вскочили, зашумели.
Голотский скомандовал непривычно зло:
— По местам! Шумов — на место! Кобас — сядь!
И сам подошел к Довгелло, приподнял зачем-то указательным пальцем веко у него на глазу и сказал тем же сердитым тоном:
— Обморок!
Потом распорядился:
— Никаноркин, живо беги вниз за доктором. Он, должно быть, в канцелярии — сегодня его день. Да не топай копытами, пучеглазый!
Никаноркин убежал, стараясь ступать на носки.
Инспектор постоял с минуту над Довгелло — у того голова беспомощно лежала на плече… Голотский пробормотал:
— Да, глубокий обморок.
Встретившись взглядом с глазами Гриши, все еще полными ужаса, он добавил:
— Ну, вот ты, Шумов… и еще кто? Персиц! Несите его вдвоем в коридор, к баку с водой. Да тише вы! Побрызгайте ему лицо из кружки, виски смочите… И — тихо! Слышите?
Шумов с Персицем осторожно подняли неподвижного Довгелло и на цыпочках понесли его к выходу из класса. Голова Вячеслава никла, Гриша с болезненно сжавшимся сердцем подхватил ее — и тут же вздохнул с облегчением: шея была теплая.
Живой!
Вдвоем они усадили Вячеслава на табурет возле бака, Персиц взял кружку, и цепь, которой она была прикована к цинковому баку, загремела.
Голотский выглянул из класса, свирепо погрозил Персицу пальцем.
Он, видно, сильно беспокоился: как же, чуть не случился беспорядок на уроке — на его уроке!
Но Персицу с Шумовым было теперь не до инспектора. Они принялись потихоньку брызгать водой на щеки Вячеслава. Наконец Довгелло, не открывая глаз, проговорил далеким голосом, как во сне:
— Н-не надо… я сейчас.
Неожиданно у самого бака появился Стрелецкий. Прямо из-под земли вырос! У него на каблуках были резиновые набойки…
Брезгливо, двумя пальцами, как будто перед ним было нечто омерзительное, он взялся за окровавленный платок Довгелло.
— Ах, вот что…
И быстро нырнул гладко причесанной головой к самым губам Довгелло:
— Чем порезал? Стеклом? Кто разбил стекло? Ну, скоренько! Скоренько скажи мне.
Персиц выронил кружку. Гриша не отрываясь глядел на затылок Стрелецкого. Какой белый, холеный, старательно подбритый затылок! Надзирателю все равно, умрет Довгелло или нет; даже умирающего он будет допрашивать о разбитом стекле!
Вячеслав прерывисто вздохнул.
— Ты ведь только что говорил: «Не надо». Значит, можешь говорить? Ну, скажи! Быстренько, голубчик: кто разбил?
В это время со стороны лестничной площадки послышался скрип, топот и даже звон, будто в коридор с нижнего этажа вторглось немало народу…
Нет, это всего-навсего шел доктор. И с ним — Никаноркин. Но Коля Никаноркин шел беззвучно, еле касаясь половиц носками ботинок. Шум подымал один доктор. Краснощекий, чернобородый, веселый, он грузно топал ногами; высокие его сапоги скрипели, а на каблуках звенели шпоры: это был военный врач кавалерийского полка (в училище он приезжал только два раза в неделю), и вся эта воинская красота полагалась ему по уставу.
— Где больной?
Докторский бас звучал жизнерадостно. На ходу он бодро вытирал белоснежным платком густую бороду.
Стрелецкого он бесцеремонно оттеснил плечом, украшенным узким серебряным погоном: