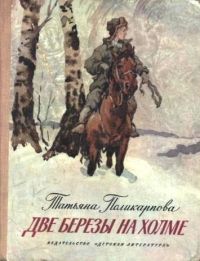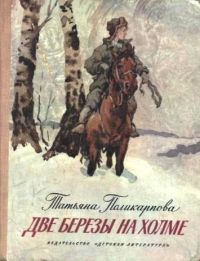Мы сбросили снег уже со всего ската, а Лешка все не шел. Поговорил, и на том спасибо!
Вдруг раздался его свист. Мы как раз стояли верхом на коньке: одна нога здесь, другая — там. Видим, Лешка на санях куда-то направился. Попридержал свою лохматенькую лошадку, кричит:
— Погодите меня! Я только соломы на двор привезу! Я скоро! Матери вон лошадь дали!
Что ж тут делать! Мы знаем, что заполучить лошадь на двор для какой хозяйственной нужды — случай не частый. Прокричали Лешке:
— Не торопись! Мы сами!
И я поняла, как сильно ждала я Лешку, а он, видно, не спешил ко мне.
Скидывать снег с дворового ската крыши оказалось не так просто. Двор-то был расчищен, падать высоко и жестко. Тетя Еня велела подождать, пока она к нам заберется. Она захватила с собой вожжи. Обвязала вокруг пояса меня вожжами и, укрепившись за коньком, страховала меня, как альпиниста. Зульфия, конечно, не могла от меня отстать. Пока я работала, прыгала надо мной и кричала:
— Оставь половину! Не меньше!
Но даже это альпинистское приключение показалось мне теперь скучноватым. Теперь, когда я знала, что, конечно, мы все успеем еще до Лешкиного возвращения с соломой.
Я поклялась себе, что никто на свете не узнает об этой моей недопустимой слабости. Тем более сам Лешка.
Уже поздно вечером — лампы зажгли — услышали мы разбойный свист за окном: Никонов давал знать, что возвращается. Ждали бы мы его!
Я насмешничала и смеялась вместе с Зульфией, но свист отозвался в сердце, оставил там какое-то тихое дрожание. Бедный Лешка! Видно, намучился с соломой: на конном не оказалось или не дали, послали самого в поле, к ометам. Вот и поздно. Выйти бы сейчас к Лешке, пойти вместе с ним за возом… Мы бы разговаривали, а перед глазами покачивалась бы соломенная путаница… А под ногами на твердой дороге похрустывали бы только комочки снега…
Но было это так же несбыточно, как подержать под уздцы коня рыцаря Айвенго…
— Ишь кавалер-то! Все посвистывает! — сказала тетя Еня. — Чего ж не бежите?
— Еще бы мы к нему бегали! — так сказали мы с Зульфией.
Почему так несправедливо получается? Когда Лешка звал нас на карусель, я не могла пойти. А когда я уже настроилась и поверила, когда я поняла, что самой мне нужен Лешка и его внимание, то он вдруг непонятно начинает себя вести, сам отдаляется.
На другой день после чистки крыши был Никонов тих и скромен. На нас с Зульфией — никакого внимания. Будто это и не он подавал мне варежки, звал на карусель и хотел прийти с крышей подсобить. Обиделся, что ли, на нас? Да за что же? На свист его мы, что ли, должны были выбегать, в самом-то деле? Дуется, ну и пусть, сердилась я. А все-таки чувствовала вину перед Никоновым. И потому еще сильнее сердилась и на него, и на себя и старалась веселиться изо всех сил. И назло же себе стала в перемену громко спрашивать:
— Девчонки! А кто у нас в эти дни дежурит? Что-то не слышно никаких историй!
И вдруг узнаю, что никто после нас не дежурил, что Силантия Михайловича послали в район на курсы.
— Ну и врете! — презрительно, как ее сестра, скривив пухлые губки, бросила Верка. — Курсы у них бывают только в каникулы.
Видно, Верка что-то знает про военрука.
— Вер, а знаешь, так чё не скажешь? — миролюбиво попросила Тоня.
— Ничего я не знаю! Знаю только по нашей Анастасии: их, учителей, по каникулам всегда собирают. Вот и все. Ну ладно, поглядим. У нас воендело завтра? Завтра и узнаем: либо будет, либо объяснят, что и как.
Я даже про Лешку позабыла думать. Подтолкнула локтем Зульфию, переглянулись мы с ней: не из-за нас ли, мол, сняли дежурства… Не из-за нас ли военрука в район вызвали…
Но в пятницу пришел на свой урок Силантий Михайлович как ни в чем не бывало. Принес настоящую винтовку, и тут уж было не до разговора, не до наблюдений за его настроением. (Он за винтовками, мелкокалиберками, и ездил в район. Привез три штуки.)
Мы разбирали и собирали затвор. Все очень просто. У меня сразу получилось. Не то что с гранатами.
Но в самом конце урока Силантий Михайлович, глядя не на класс, а куда-то в сторону, в окно, сказал, как бы случайно, ни к тому ни к сему:
— Я думал, вы, ребята и девчата, серьезные, самостоятельные. Ну, с пониманием. Уж раз военное дело вам доверяют… А мне говорят: они еще дети… Н-да-а… Хочешь-то как лучше…
У военрука на шее жалостно так ходил острый кадык: вверх-вниз…
Ворот шинели казался грубым, жестким. Он походил сейчас на обиженного взрослыми мальчишку, не знающего, в чем его вина. Даже губы его искривились и чуть дрожали. Мне-то с первой парты хорошо видно…
Наверное, ребята ничего не поняли. А мне хотелось под парту нырнуть от стыда: как человека подвели! И еще радовалась только что: мол, ага, военруку тоже попало за дежурство! Не одни мы виноваты!
Когда же она кончится, эта казнь! Думаешь: ну, все! И опять кто-то страдает из-за нас…
И ничего не скажешь Силантию Михайловичу, а жалко его и себя тоже — нестерпимо.
А военрук вздохнул и сказал:
— Ну да ладно… Видно, и впрямь век учись… — И стал собираться: закрыл журнал, взял ручку, затвор, который услужливо подала ему Зульфия, вложил в винтовку, — и как раз звонок…
— Дежурства отменяются, — сказал военрук, — поскольку вы, бойцы, оказались дети…
Конечно, все стали смеяться и выкрикивать:
— Дети! Ой, детка! Дедка-дедушка!
Но с Силантием хоть все объяснилось. И он выговорил тем, кто понимает. И мы поняли. И дежурства отменили. С Силантием обошлось.
А Никонов с каждым днем становился все задумчивее и грустнее. Это было удивительно. Так на него не похоже. Казалось, он заболел. Он не звал больше никого на свою карусель. И однажды мы увидели, что колеса перед домом Никоновых больше нет.
Мною владело какое-то странное, очень сложное чувство. Было и удовлетворение: так, так, голубчик! Не бегаешь больше в седьмой класс! Не пачкаешь мои учебники! Была жалость к нему: наверное же, для Никонова быть печальным нелегко; плохо, наверное, ему. И был еще какой-то тайный, ликующий страх: что же это такое происходит с тобой, Лешка? Значит, правда? И это я? Потому что каким-то образом я знала, что печаль и грусть Никонова из-за меня. Хоть и не понимала, почему бы ему со мной не разговаривать.
Отсюда при всем моем ликовании и страх: страшно, когда человек так меняется из-за тебя; будто вина на тебе, будто должна ты ему непомерный долг. Меня эта собственная моя виноватость возмущала: с какой же стати — должна? Что я, просила его меняться? Вспоминала, однако, что хоть не просила, но хотела видеть его другим — грустным и влюбленным… Коленопреклоненный шляхтич… При шпаге и в камзоле… Да ведь он-то не знал, чего я хотела! Мало ли кто что себе представляет!
Выходило, что и не «бегал» Лешка за мной и грустил, — по-моему выходило! И должна была я испытывать то самое главное счастье — одержанной победы, а не испытывала я его.
Очень все ждали поездки на смотр: десять километров до совхоза и еще двенадцать до райцентра! В тулупах, на санях. Со снаряжением для сцены и едой для себя.
Я по-особому ждала. Дорога длинная, общий вечер, концерт. Думала: увидит Леша, что я не обижаюсь на него, просто к нему отношусь, и подружимся снова, как было — правда, совсем недолго — до Вальки Ибряевой, до дежурств. Когда они с Костей Карповым карусель сделали.
В дороге будет весело, думала я. И там, в райцентре. А вышло — сплошная печаль. Кажется, девчонки веселились. Но не я. И не Лешка.
Смотр был в воскресенье. Мы, совхозные, как всегда, в субботу уезжали домой и должны были утром в воскресенье встретить пеньковских, напоить, накормить и ехать с ними дальше, но на своей подводе. Так договорились. И решили: мальчишки пойдут обедать к Степке Садову, а мы разберем девчат.
Когда утром прибыли пеньковцы — их уже ждали возле конторы, — Лешка, кажется, даже и не глянул в нашу сторону. Он, конечно, был за кучера и сразу принялся обихаживать лошадь — повел ее на конный; говорят, Степка потом прибежал за Лешкой туда и Лешка даже не хотел идти к Садовым, сидел в дежурке с конюхами и ел свои лепешки, запивая кипятком.
И в дороге держался взрослым мужиком: соскакивал при раскатах с саней, удерживал их, чтоб не больно лошадь мотали, всю дорогу был, как говорится, на легкой ноге. Девчата, да и мальчишки — Домоседовы, Карпэй, — под тулупами, а Лешка так и проскакал двенадцать километров в своем бушлатике «на вырост», оголявшем его тонкую шею.
Мы следовали своим экипажем — ехали впереди, и к нам в сани пересела только Мария Степановна.
В райцентре Никонов не стал веселее. Он по-прежнему всем помогал, устраивал все, прилаживал, заранее, до концерта, внес в класс, который нам отвели под ночевку в средней школе, сена, чтоб согрелось, разложил тулупы и полушубки. Так что Мария Степановна удивленно заметила: