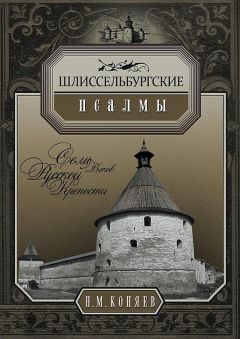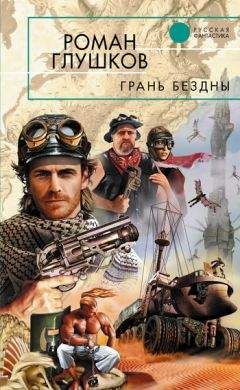— Молодец!
— Ради стараться для твоей царской милости!
— Имя твое ведь Одинцов?
— Одинцов, ваше величество.
— Под Шлюшеном за примерною перед другими храбрость ефрейтором пожалован?
— Точно так, под Шлюшеном, да не столько почитай за храбрость — кто же, государь, из гвардейцев твоих не храбр? — сколько милостью твоей царской.
— Молодец! — повторил Петр. — Стой за товарищей, и ни Бог, ни царь тебя не забудут. А как вернешься нынче в лагерь, так толкнись-ка к полковому казначею да потребуй себе моим именем десять рублей.
Говоря так, царь перевязал раненому орлу ноги платком, чтобы не улетел, и, надев перчатку, посадил его себе на руку.
Когда он тут поднял взор, на глаза ему попался Иван Петрович, стоявший еще арестантом между двумя гвардейцами.
— Поди-ка ты теперь сюда.
Тот подошел и замер, ни жив, ни мертв.
— С ума ты, сударь мой, спятил или младенец ты неповитый? — продолжал государь, видимо сдерживая новый прилив гнева. — Не слыхал ты, что ли, что отнять силою оружие у солдата при исполнении им служебного долга — такая продерзость, за которую военному человеку один конец — пуля, а вашей братье — петля, при особой же милости — ссылка туда, куда ворон костей не заносил?
— Виноват, ваше величество… но все от необоримого желания сделать вам угодное, — пробормотал молодой человек, растерянно потупясь перед искрометным взором царским. — Я стреляю без промаха.
— Особливо ж ручных лосей? — досказал Петр.
В строгом голосе его можно было уже расслышать игривую ноту, и бывший тут же Меншиков счел момент наиболее удобным, чтобы ввернуть свое веское слово.
— Не одних лосей, государь, — сказал он, — а и врагов для спасения ваших верных слуг: без его меткой пули меня, вернейшего вашего слуги, не было б в живых. Коли молодчик давеча проштрафился, так истинно, как говорит он, от излишнего, не по разуму усердия.
— А за усердие, думаешь ты, не казнят, кольми паче в столь радостный для нас час? — добавил Петр, окончательно умиротворенный заступничеством любимого вельможи. — Ну, что ж, мусье, поклонись ходатаю твоему Александру Данилычу в ноги, а ввечеру, так и быть, за твое отменное усердие пожалуй к нашему столу: и про тебя, может, еще куверт найдется.
Вместо ожидаемого громового удара — да полное солнце! Ослепленный, ошеломленный, Иван Петрович не нашелся даже поблагодарить государя, который предложил теперь владыке начать литию. По окончании же литии и освящении временных ворот Петр, впереди всех, с орлом на руке, прошел через ворота, чтобы направиться обратно к своей яхте.
— Что же ты меня, братец, не поздравишь? — говорит Спафариев своему калмыку, которого от избытка чувств придал бы к сердцу.
— С чем поздравить-то? — отозвался тот со вздохом. — Что закружишься снова в вихре всяческих веселий?
— А тебе жаль, дурак, что после бочки дегтя перепадет барину ложка меда?
— Не меда жаль, а дегтя, которого скоро вдвое еще подбавится.
— Ты об экзамене опять? Небось! Авось, тоже увильнем.
— Авось да небось — хоть вовсе брось. От экзамена царского, как от страшного суда, ни крестом, ни пестом не отмолишься.
— Silencium! Сиречь, цыц! Ни гугу!
Корова наконец под седоком свалилась.
Не мудрено: скакать корова не училась.
Хемицер
Карету мне, карету!
Грибоедов
Опасение Лукашки, к сожалению, вполне оправдалось. Допущенный к парадному царскому столу, господин его хотя и занял место в конце стола между самыми юными придворными чинами, но своею остроумною болтовнею и неисчерпаемыми анекдотами из парижской бульварной жизни так очаровал их, что к концу пиршества, затянувшегося до двух часов ночи, каждый из собеседников выпил с ним «брудершафт» — на «ты». Последствием этого было то, что предвидел калмык: день за днем барин его проводил уж с своими новыми друзьями, а когда камердинер позволял себе намекать на предстоящий «страшный суд», Иван Петрович делал вид, что не слышит или же, не взглядывая, ворчал себе под нос:
— Надоел, право, хуже горькой редьки! У меня теперь есть что и поважнее.
— Что же такое?
— А хоть бы постройка дворца государева.
— Да ведь не тебе же, сударь, поручена?
— Не мне лично, так добрым приятелям моим, а поспеть работа должна к сроку. Так как же не пособить им?
— Елейными речами умаслить машину?
— Ну, да, да! Отстань.
На Березовом острове, действительно, шла самая спешная работа: весь берег острова по Большой и Малой Неве был выровнен и очищен от леса, который тут же тесался на бревна и доски для нового царского дворца. 26 мая строение было уже под крышей. По малым своим размерам и незатейливости совершенно во вкусе Петра, оно, правда, гораздо более походило на простой обывательский дом, чем на царские палаты, причем теряло еще от соседства раскинутых по сторонам его двух больших нарядных шатров, предназначенных для генералитета и сделанных из персидского шелка, а внутри устланных дорогими коврами.
28 мая могло состояться и самое освящение нового дворца, наименованного «Петровым домом» — «Петергофом». По окроплении здания святою водою государю были поднесены: духовенством — образ Живоначальной Троицы, а царедворцами, с Меншиковым во главе, — хлеб-соль на золотых и серебряных блюдах, а также разные драгоценные подарки; после чего произведена была троекратная пальба: палила стоявшая «в параде» около дворца гвардия, палила подвезенная сюда же артиллерия, палили боевые суда на берегу, палили наконец с Заячьего острова крепостные орудия, установленные на новых раскатах.
«Царское величество в великом был обрадовании (докладывает современный хроникер), всех поздравлявших благодарил, жаловал к руке, а потом приказною водкою, и изволил сесть кушать с ликом святительским в новом дворце, потом изволил выйти и кушать в шатре с генералитетом и статскими знатными чинами».
В третьем часу дня столующих неожиданно салютовали троекратными же выстрелами две шнявы и яхта, нарочно прибывшие из Шлиссельбурга по распоряжению тамошнего губернатора Меншикова. Петр был видимо тронут.
— Спасибо, мейн герц! — сказал он, целуя своего фаворита. — Идем-ка сейчас, осмотрим твои кораблики.
И, переправясь на шлюпке на один из «корабликов», он со всею флотилией проплыли мимо вновь заложенной крепости, откуда их приветствовали громом орудий. С флотилии, разумеется, отвечали тем же. По возвращении же во дворец Меншиков от лица всего русского народа принес поздравление царю с русским флотом на Балтийском море; после чего пир возобновился с новым оживлением и продолжался до глубокой ночи.
Увы! Для Ивана Петровича то был последний безоблачный день на берегах Невы.
На следующее утро он был поднят с постели двумя часами ранее обыкновенного: царь неожиданно потребовал его к себе со всеми его учебными книжками, планами и ландкартами.
— Ah, mon Dieu, топ Dieu! — бормотал про себя совсем упавший духом Иван Петрович, наскоро одеваясь при помощи своего камердинера. — Как же это так вдруг? Меншиков обещал же мне шесть недель сроку, а тут не прошло и трех недель…
— А вот поди-ка-сь, поторгуйся с царем! — отозвался Лукашка. — Да все равно, ведь и остальное время даром прогулял бы.
— Ну, что же, головы с плеч не снимет! Только вот что, брат Лукашка: ты меня не выдай, ты войди со мной, да так и не отходи ни на шаг, и чуть что — подскажи.
— Ну, уж не поскорби на меня, батюшка-барин, но я тоже не о двух головах, и сделать этого не посмею.
— Как не посмеешь, болван?! Если я тебе приказываю?
— Приказывай, не приказывай, но коли приказ твой идет против воли Божьей и царской…
— Ты еще разговаривать! — вспылил барин. — По воле Божьей и царской ты бессловесный раб мой. Так или нет?
— Так-то так…
— А коли так, то я тебя, раба, как вот этот башмак свой, могу не токмо что отдать первому встречному, но и исковеркать!
— Воля твоя, сударь…
— А моя, так, что прикажу, то ты за долг святой полагать должен. Перед Богом и царем не ты, а я ответчик. Sapienti sat! — как говорит Фризиус, punctum, точка!
Что оставалось «бессловесному рабу» после такого категорического разъяснения, как не поставить точку и делать по приказу? Поэтому, когда он вслед за своим господином был впущен в государеву палатку (Петр ночевал еще по-прежнему в шлотбургском лагере), чтобы сложить там свой научный груз, калмык не торопился отойти от стола, на котором развернул принесенные с собою планы и ландкарты.
— Что, не выспался еще с вечорошнего? — спросил царь Ивана Петровича, заметив его распухшие веки и красные глаза. — И вельможи мои еще прохлаждаются. Но покамест я свободен и хочу вот вызнать на досуге, чему ты за морем доподлинно обучен. Ну-с, чем можешь похвастать?