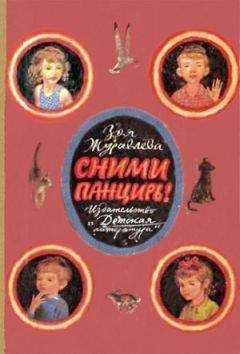Тётя Наташа Витю спать повела, он ещё маленький.
— И вы давайте-ка, — сказал папа нам с Ариной.
Я не думал, что он так скажет. Всё-таки нам с Ариной скоро шесть лет. И мы глаза не трём. Мы вполне бы могли ещё посидеть.
— Давайте, давайте, — опять сказал папа.
Тогда Арина подумала и говорит:
— Только я буду с Лёдиком в комнате спать, ладно?
— Не ладно, — говорит папа. — Ты будешь с Надеждой Георгиевной спать у себя в квартире, а Лёдик будет со мной. К тебе тётя приехала. Зачем тебе теперь у нас спать?
— Я хочу с Лёдиком, — говорит Арина. — Я у вас привыкла. Давайте тогда все у вас спать. И тётю Надю возьмём.
Мы бы тётю Надю с удовольствием взяли. Но нам её некуда положить. У папы диван стоит в кабинете, папа сам на нём спит. А в моей комнате есть кровать и кушетка, мы с Ариной вполне можем лечь. Мы всегда там спим, если Арина у нас ночует.
А тётю Надю куда? Не на раскладушку же её класть! Гостей на раскладушку не кладут, так папа считает. Тут дядя Володя вдруг говорит:
— Тише! По-моему, Мухаммед едет.
Мы стали слушать. Ничего не слышно. Движок тарахтит в сарае, от движка у нас свет. Зззз!.. Летучая мышь пролетела. Цикады в кустах звенят, тонко так. Они всегда у нас вечером звенят. Мы на цикад даже не обращаем внимания — привыкли. Звенят и звенят. А больше ничего не слышно.
— Слышите? — говорит дядя Володя.
Мы тоже услышали. Чоп!.. Чоп!.. И опять: чоп, чоп, чоп… Это лошадь топает по песку.
— Что-то случилось, — говорит папа. — Может, придётся вам ещё в одной комнате спать.
Вот как нам повезло с Ариной.
Слышно уже, как лошадь дышит. Бежит и дышит. А никакой лошади нет. Потом она как выскочит из темноты! Конечно, эту лошадь в темноте не увидишь. Она сама чёрная. Только хвост белый. Она обмахнулась своим белым хвостом и прижмурилась на лампу. Мухаммед с неё спрыгнул и сразу говорит:
— Алексей Никитич, в Южной долине машина ходит!
— Вот как? — говорит папа. — Очень интересно.
Мухаммед на своей лошади объезжает наш заповедник, у него такая работа. Он объездчик. Он даже без седла объезжает. Даже ночью объезжает, ему всё нипочём. С Мухаммедом мы просто горя не знаем. Мухаммед так на лошади и родился, вот он какой.
— Когда ты заметил? — говорит папа.
Мухаммед ещё утром заметил. Следы. Вроде бы вездеход. Мухаммед по следам прошёл, ничего такого ему не попалось. Ни гильз, ничего. Джейраны спокойно ходят, пасутся. Но Мухаммед всё-таки насторожился. Как стемнело, он на Большом бархане засел. С него вся долина видна как на ладони. Вдруг — это час назад было — видит: свет движется в темноте. Фары. И опять с запада, как вчера. Мухаммед сразу к нам поскакал.
— Опять, значит, они за старое, — говорит папа. — Боря, тележку готовь! Володя, где карабин?
Боря в гараж побежал, заводить.
— Карабин в кабине. Он всегда в кабине.
— Может, просто какая-нибудь экспедиция, — говорит тётя Надя.
— Вряд ли, — говорит папа. — Мы бы знали.
— Может, геологи?
— Без нашего ведома тут геологам нечего делать! У нас и для геологов заповедник.
Папа объясняет тёте Наде, а сам уже одевается. Он высокие сапоги надел. Куртку. Патроны распихивает по карманам.
— Значит, это браконьеры? — говорит тётя Надя.
— Вернее всего.
— А я думала, они только в кино, — говорит тётя Надя.
Вот тут она ошибается. Браконьеры как раз не в кино, они для нас прямо бич. В пески понаехало столько народу! Посёлки строят. Или газ добывают. Это, конечно, хорошо. Но народ этот разный, приезжий. Он пустыню не бережёт. Думает, что в пустыне всё можно.
Браконьеры всех бьют без разбору. Заяц — бьют зайца. Джейран — значит, джейрана бьют. Безоарового козла они, например, уже выбили. Где теперь этот козёл? Нет его!
Да ещё они с фарой охотятся. Это уже не охота, а настоящее убийство. Крепят в кузове сильную фару, едут и крутят своей фарой в разные стороны. Джейран, например, в темноте притаился, а на него вдруг такой свет. Если джейран в свет попал, он из него выскочить не может. Он бежит из последних сил, ничего не видит, а браконьеры за ним на машине. Так ничего не стоит джейрана загнать, убийство — даже без выстрела.
— Готово, Алексей Никитич, — говорит шофёр Боря.
Дядя Володя уже в кузове. Он бочонок с водой привязывает, чтобы бочонок не прыгал. Вдруг кузов будет трясти? Вода теперь не разольётся. Дядя Володя у нас ничего не забудет.
— Ох, и хозяйственный ты, Володя, — говорит тётя Наташа. — Твоей жене легко будет жить. Взял бы да женился.
Тётя Наташа у нас весёлая, всё шутит над дядей Володей.
— Пока нет на ком, — говорит дядя Володя. И сразу отвернулся от тёти Наташи: он этих разговоров не любит.
— Но в людей они не стреляют? — спрашивает тётя Надя.
— В людей — нет, — говорит папа. Он уже в кузов прыгнул.
— А зачем ружьё? — опять говорит тётя Надя.
— Ружьё? — засмеялся папа. — Это просто для острастки.
Боря рванул, и они уехали.
Мухаммед на своей чёрной лошади тоже ускакал. Лошадь заржала из темноты, а уже не видно.
Марина Ивановна последнюю чашку вымыла, посмотрела на свет — чисто ли? Чисто, блестит.
— Ишь, для острастки! А в самого браконьеры стреляли.
— В кого? — не поняла тётя Надя.
— В кого — в самого? — спрашиваю я.
— В твоего папу, в кого же ещё, — говорит Марина Ивановна.
— Никто в него не стрелял! Глупости какие!
Только на войне в людей стреляют. У меня дедушку на войне убили, а папа маленький был. Если бы он был большой, его бы тоже могли убить. Хорошо, что он маленький был!
— Тебя, Лёнечка, тогда ещё не было, — говорит Марина Ивановна.
— Был, — говорю я. — И в папу никто не стрелял.
— А ты бы у папы спросил, почему у него такой шрам на плече. Это ему пулю вырезали.
— Нет, — говорю я. — Это папу кошка оцарапала в детстве, а никакая не пуля, он сам говорил.
— Кошка?!
Марина Ивановна даже очки уронила под стол, так она стала смеяться. Арина за очками полезла и толкнула чайник. Нечаянно. И тоже смеётся. Чайник упал на колени к тёте Наде, весь разлился. А тётя Надя двумя руками чай с платья сгоняет и тоже смеётся.
Я тоже как засмеюсь.
Марина Ивановна отсмеялась и говорит:
— Вот ведь какой! Своему ребёнку и то про себя не расскажет. А настырный, как клещ. Теперь-то у нас в заповеднике браконьеры — редкость, новые разве какие. А до Лёши по тридцать джейранов в ночь били, хоть бы что. Он тут порядок навёл. За браконьерство тюрьма полагается, кому в тюрьму охота! Вот в него и стреляли.
— А кто? — говорит тётя Надя. — Неизвестно кто?
— Чего тут неизвестного, — говорит Марина Ивановна. — Отец вот этого Мухаммеда и стрелял.
Неужели отец Мухаммеда в папу стрелял? Я же его видал. Он к папе приезжал на рыжем верблюде. Папа с ним чай на веранде пил и говорил по-туркменски. Потом меня позвал: «Это, — говорит, — мой парень». Отец Мухаммеда закивал, закивал. У него шапка такая большая, в меховых сосульках, высокая, как дом. Он шапкой закивал. Я думал, у него голова отвалится — такой шапкой кивать. Потом он на улицу вышел, уже ехать хочет. А рыжего верблюда нигде нет! Отец Мухаммеда вдруг как цыкнет сквозь зуб! И верблюд сразу прибежал, как собака. Лёг перед ним. Отец Мухаммеда сел на верблюда, опять шапкой кивнул и уехал. Вот как я его видел.
А он в моего папу стрелял…
— Судили его? — спрашивает тётя Надя.
— Лёша не заявил, — говорит Марина Ивановна. — Посадили бы ведь как миленького, а у него детей четырнадцать штук. Мухаммед вон — младший. Это ещё когда было! Давнее дело.
— Ничего себе история, — говорит тётя Надя.
— А мы истории любим, — говорит Марина Ивановна. — Телевизора у нас нет, мы уж что сами — то и наше. Браконьеры угробят джейраниху, а мы потом маленького из соски выпаиваем, обычное дело… Теперь до утра пробегают по следам. Спать, что ли, будем?
Я за стол держусь, чтобы не упасть. Спать почему-то так хочется! Арина голову подняла, говорит:
— Только мы с Лёдиком…
А тётя Надя в папином кабинете легла.
Я сплю. Вдруг меня кто-то зовёт: «Лёдик, Лёдик!» Далеко! Это меня Арина зовёт. Я по тропинке иду, а Арина сзади кричит: «Лёдик!» Я думаю, чего она кричит! Надо бы посмотреть… Но у меня глаза закрыты. Я сплю.
Потом кто-то шёпотом говорит:
— Лёдик, проснись!
Я сразу проснулся. Темно. Тётя Надя в папином халате рядом стоит, наклонилась ко мне:
— Лёдик, ты чего плакал?
— Я не плакал, — говорю, — я спал.
— Значит, во сне, — говорит тётя Надя. — Ты во сне когда-нибудь плачешь?
— Нет… И во сне не плачу.
Я редко плачу. Только если про маму подумаю — плачу. Подумаю, что её нет. У Арины есть мама, у Вити есть. А у меня мамы нет. Зачем она умерла? Я даже не помню, какая моя мама, я маленький был. Только по карточке помню, у папы в кабинете карточка висит над столом. Там мама грустная, она сидит на песке и смотрит. Я тогда плачу, конечно.