— Я не ему молюсь. Я богу молюсь… А Пашка хороший. Это про него болтают…
— А корешки?
— Корешки тоже хорошие. Не знаешь, так молчи.
— Что ж, он, по-твоему, цаца? — возмутился Кеша.
— Ты, Кеша, Пашку не трогай. Священное писание говорит: «Не обижай ближнего своего». Бог сам все видит и сам все знает. Зачем нам вмешиваться в его дела. Все мы великие грешники.
Тоня поправила на ощупь высокий конский хвост на голове, сощурила глаза, как будто бы хотела получше рассмотреть Кешу.
— А у тебя, Кеша, грехов нет, да?
Кеша смолчал. И потому, что нечего было говорить, и потому, что Тоня отчасти была права. Но при чем тут грехи и при чем тут бог?
Солнце садилось за гору. С Байкала набежал гулевой ветерок. Листья на березе возле Тониного забора с шумом полетели в сторону и вверх, как стая стрижей. Минута — и снова повисла над тайгой тишина. Только потрескивала временами на старых соснах кора да стучал где-то очень далеко, видимо возле Чаячьей горы, дятел-дровосек.
Кеша нахмурился. Конечно, Тоня не сама придумала всю эту чепуху про бога и про великих грешников. Наслушалась Пашкиных разговоров и мелет… Надо было сказать Тоне какое-то очень веское и правильное слово. Такого слова у Кеши не было.
Кеша наморщил лоб. Стараясь привести себя в чувство, прихватил зубами губу и крепко прикусил. Но хорошие мысли все равно не приходили в голову. Казалось, еще немного — и эта несчастная голова вообще треснет и развалится на четыре части.
Кеша постоял еще немножко, подумал и сказал:
— Ну тебя совсем с твоим Пашкой и с твоим богом! Даже разговаривать с тобой не хочу.
Возле Кешкиной избы стоял стожок сена. Едва уплыл с Байкала лед и чуть-чуть потеплело в тайге, Кеша переселился на все лето на волю. Вымостил в стожке гнездо, бросил тулуп, подушку. Не надо ни одеял, ни пуховиков, ничего на свете.
В избе только темные углы, только кадка с водой, где греется по ночам рогатый месяц. А тут не то. Тут перед Кешей целый мир — и густая сумрачная тайга, и небо, и синий-пресиний Байкал.
А еще Кеша спал на дворе для закалки. Он хотел быть таким, как отец: крутоплечим, мускулистым, сильным.
По утрам Кеша кидал вверх камень, колол дрова или просто-напросто катал, как медведь, взад-вперед источенную короедом неуклюжую колоду. Покатает, вытрет пот со лба, пощупает мускулы — и снова за дело. Только пар стоит над мокрой горячей рубашкой.
Сегодня Кеше не хотелось спать на стожке. Но выхода не было. Свет в избе уже погасили.
Кеша полез на стожок, нащупал тулуп и накрылся. Небо с каждой минутой становилось все гуще и темнее. Только в доме бакенщика на берегу Байкала все еще горел огонек. Но вскоре погас и он. И остался Кеша один на один с глухой, примолкшей к ночи тайгой и высоким недоступным небом. Слышалось, как падали где-то с высоты сосновые шишки да гудел возле самого уха неугомонный комар.
Мешал Кеше уснуть и этот комар, и неотвязные, бегущие одна за другой мысли.
Сначала Кеша думал про Архипа Ивановича, потом про Тоню, потом вспомнил вдруг Пашку и то, как рассказывал он про ад и чертей.
Кеше стало страшно. Может, бог и в самом деле есть? Сидит себе на каком-нибудь облачке, смотрит, что делают люди на земле, и наматывает все до поры до времени на ус. А может, у него даже и тетрадка есть специальная и он записывает туда грешных и недостойных людей. Всех, конечно, не запомнишь, потому что людей в последнее время развелось много и надо для этого иметь не голову, а целый котел.
Придет время, и бог вызовет Кешу к себе на небо.
«Ну, здравствуй, — скажет бог. — Как, говоришь, тебя зовут?»
«Меня зовут Иннокентий, гражданин бог, — скажет Кеша. — Только меня на Байкале так никто не звал. При жизни меня звали Кешей».
Бог раскроет потрепанную, замусоленную тетрадь.
«Так, понятно… Будем искать на букву «И». Иван, Игнатий, Игорь, Иннокентий… Ага, есть такой!»
Бог проведет пальцем по строчке и, нахмурив брови, начнет перечитывать все Кешины грехи.
«Так вот, оказывается, какой ты гусь! Ну подожди же, сейчас я задам тебе перцу!»
Бог нажмет пальцем кнопку, вызовет самого главного черта и скажет: «Поджарить этого грешника на сковородке! Дров не жалеть. Если не хватит, выпишу еще».
Кеша до того отчетливо представил себе сцену объяснения с богом, что даже почувствовал, как сзади у него что-то нестерпимо припекло. Он торопливо сунул руку под тулуп и вытащил большую острую колючку.
Кеша засмеялся и назвал сам себя дураком.
— Нет никакого бога и не было, — сказал он вслух. — А если ты есть, тогда накажи меня, и тогда я тебе поверю. Понятно?
После такой речи Кеша совсем успокоился. Он накрылся покрепче тулупом, зевнул во весь рот и уснул.
Сколько Кеша спал, неизвестно. А только проснулся он от холода.
Кеша пошарил вокруг рукой, нащупал тулуп и накрылся. Но спать ему как-то сразу расхотелось. Интересно, который теперь час — два, три, пять?
В сарае Казнищевых захлопал крыльями и закричал кочет. Но кочету этому уже давно не было веры. Подымется среди ночи и давай голосить на весь Байкал. Казнищев несколько раз помышлял прирезать глупую птицу, но все откладывал. «Нехай жиру наберет, — объяснял он рыбакам. — Одни мослы торчат, язви его!»
Но на этот раз кочет все-таки пропел вовремя.
Вскоре на востоке посветлело. Небольшое облачко, сторожившее всю ночь Байкал, порозовело, а потом стало разгораться все жарче и жарче, будто уголек на сквозном ветру.
В избах заскрипели двери. Из труб потянуло сладким утренним дымком. Зашевелились и в Кешиной избе. Зашлепали туфли матери, затем послышался глухой, отрывистый стук в пол. Это отец надевал новые, еще не разношенные сапоги.
Кеша полежал еще немножко, сгреб в охапку тулуп и пошел к своим.
День начался для Кеши как-то совсем неудачно. Пришел в избу, а тут на́ тебе, история…
Сыр-бор разгорелся из-за старого, никому не нужного шомпольного ружья отца.
Это ружье с поломанным курком и корявым от ржавчины стволом Кеша как-то брал на Байкал и там понарошке стрелял в уток и юрких пугливых чирков.
Отец увидел Кешу и ружье отнял. Целый вечер он драил шомполку тряпками, смазывал маслом и, прищурив глаз, засматривал в середку ствола.
Кеша уже давно ушел спать, а отец все пыхтел за работой, как будто бы это была вовсе и не старая шомполка, а драгоценная пятизарядная винтовка или полковой пулемет.
С тех пор шомполка стояла в темном углу за этажеркой с книгами. Кеша ружье видел, но руками никогда не трогал. Только вспомнит про уток, вздохнет втихомолку, и все.
И вот, оказывается, шомполка эта исчезла.
Когда Кеша вошел в избу, там уже стоял трам-тарарам. Отец двигал взад-вперед этажерку, искал под кроватью и, уже совсем некстати, рылся в ящиках комода.
— Где шомполка? — сердито спросил отец.
Кеша стоял посреди избы и молчал. Что он мог ответить, если не трогал эту противную шомполку даже пальцем!
Отец между тем снова полез под кровать, ударился сгоряча головой о железную сетку и разозлился еще больше.
— Скажешь ты в конце концов, где шомполка, или не скажешь?
Кеше надо было объяснить все как следует, и тогда отец перестал бы придираться и зря кричать, но Кешка полез в пузырь.
— Не скажу, — ответил он.
Кеша жестоко поплатился за эту дурацкую выходку. Тяжелая, с крупными синими жилами рука отца дрогнула и рывком, будто саблю, вытащила из гнездышек брюк толстый солдатский ремень.
— Так ты, значит, не скажешь! Ты не скажешь!
Засвистел в воздухе ремень — взвизгнул и завыл на всю избу Кеша.
Если бы не мать, вполне возможно, что от настоящего живого мальчишки остались бы в избе только длинные тесемки да серые, никому не нужные лохмотья. Не ожидая, что будет дальше, Кеша подхватил рукой слетевшие с пуговиц порты и дал стрекача.
Не разбирая дороги, бежал Кеша к Байкалу. Еще немножко, еще чуть-чуть — и сердце его могло разорваться от злости, боли и гадкого, противного стыда. Никогда еще не бил Кешу отец, не кричал на него и не дергал за руку, как сегодня!
Нет, хватит уже с него! Чем так жить, лучше совсем умереть. Теперь Кеше ничего не жалко. Добежит сейчас до Байкала и бросится головой вниз. И пускай тогда отец плачет и рвет с горя волосы на голове. Он еще узнает, как кричать на Кешу и бить ни за что ни про что ремнем!
Под ногами Кеши заскрипели береговые камни, остро повеяло в лицо большой водой. Кеша подбежал к скале и остановился. Далеко внизу сверкал на солнце Байкал, на волнах, будто поплавки, покачивались белогрудые чайки.
И тут Кеше как-то сразу расхотелось умирать. Он отступил от кручи, чтобы случайно не загреметь вниз, и вытер лоб рукой. Сначала надо подумать, а потом уже умирать, решил он. В конце концов, это не к спеху. Можно пока и подождать…
Кеша стоял возле обрыва и смотрел вниз. Он любил и эти синие волны с белыми, завернутыми набок гребешками, и серебряные шапки Хамар-Дабана, и трепетную, убегающую за горизонт полоску тайги. Если б можно было сначала умереть, а потом снова ожить, тогда дело другое. Тогда бы он, пожалуй, согласился…
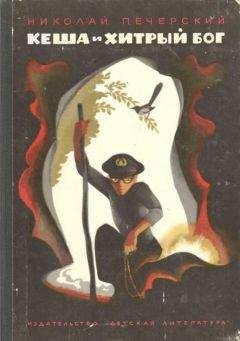
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)



