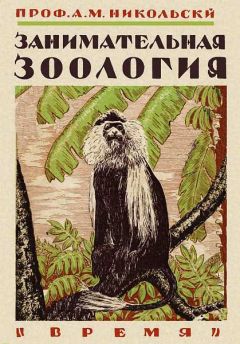— Так точно, — отвечает Башмаков. — Всё в порядке: крыша не течёт, стёкла вставил, забор покрасил.
— Да я не про то спрашиваю, — смеётся доктор. — Как ваше самочувствие — в порядке?
— Самочувствие хорошее, — говорит Башмаков.
— Ну и прекрасно, — говорит доктор.
В этот же день выписал доктор Башмакова из санчасти, и они расстались очень довольные друг другом.
Эта история произошла с Башмаковым в день его отъезда из части, когда он демобилизовался.
Утром Башмаков получил в штабе документы, распрощался со своими товарищами и со своими командирами тоже распрощался, выслушал последние напутствия замполита части подполковника Кораблёва, вскинул за плечи вещмешок и пошёл на станцию. Мимо казармы, мимо парашютной вышки, мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту.
Пришёл на станцию, а там на платформе полно незнакомых солдат. И все — кто с чемоданами, кто с вещевыми мешками.
«Что бы это могло значить?» — подумал Башмаков.
Сел он в сторонке на скамейку и вещмешок положил рядом. До поезда ещё долго.
Тем временем солдаты начали строиться. Вдоль строя бегал низенький капитан и командовал:
— Подравняться! Подравняться! Левый фланг — разобраться!
И тут он увидел Башмакова.
— Товарищ, а вы что же? — сказал капитан. — Ну-ка, быстренько в строй!
— Да я… — начал было Башмаков, но капитан укоризненно взглянул на него и сказал:
— Разговоры! Отставить разговоры! Живо — в строй!
И Башмаков подхватил свой вещмешок и послушно встал в строй.
Ведь за три года службы он научился беспрекословно повиноваться приказам старших начальников.
— Напра-во! — скомандовал капитан.
Все повернулись направо, и Башмаков повернулся вместе со всеми.
— Бего-ом марш!
Все побежали, и Башмаков побежал вместе со всеми по той самой дороге, по которой только что шёл на станцию.
«Странно, — думал Башмаков. — Очень странно».
Они пробежали мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту, мимо парашютной вышки, мимо казармы и остановились возле штаба.
А из штаба вышел подполковник Кораблёв, замполит части.
— Поздравляю вас, товарищи, с прибытием в нашу часть! — громко сказал замполит. — Вы прибыли к нам из учебных подразделений, чтобы с честью продолжить…
И тут замполит замолчал, потому что увидел Башмакова.
Башмаков стоял в последней шеренге и внимательно смотрел на замполита.
Несколько минут замполит не мог выговорить ни слова.
— А вы, рядовой Башмаков, откуда? — наконец спросил он.
— Со станции, — сказал Башмаков. — Согласно приказу товарища капитана.
Солдаты в строю засмеялись, подполковник Кораблёв вопросительно посмотрел на низенького капитана, а низенький капитан очень смутился.
— Ну что ж, — сказал замполит, — пожалуй, это даже весьма кстати, что вы здесь оказались.
И он велел Башмакову выйти из строя.
А потом сказал:
— Вот перед вами, товарищи, рядовой Башмаков. Сначала, когда он так же, как и вы, прибыл к нам, служба у него не клеилась. А теперь он увозит с собой одни благодарности. Сколько у вас благодарностей, Башмаков? — спросил он.
Башмаков беззвучно зашевелил губами и начал загибать пальцы сначала на правой, а затем на левой руке.
— Девять благодарностей, товарищ подполковник! — сказал он.
— Вот видите — девять благодарностей! — сказал подполковник.
— И ещё ценный подарок! — сказал Башмаков.
— И ещё ценный подарок! — сказал подполковник. — А всё благодаря старательности, настойчивости и сознательности. Правильно я говорю, Башмаков?
— Так точно, товарищ подполковник! — сказал Башмаков. — Правильно.
Потом замполит пожал Башмакову руку, и Башмаков опять пошёл на станцию. Мимо казармы, мимо парашютной вышки, мимо дежурного по контрольно-пропускному пункту.
И успел на этот раз точно к поезду.
Так благополучно закончилась эта последняя история.
А впрочем, может быть, её и не было вовсе, этой истории. Ведь о ней нам написал сам Башмаков в своём письме с дороги. А он вполне мог и придумать. Просто он знал, что мы всё равно не поверим, если он напишет, что за всю долгую дорогу домой с ним так ничего и не случилось.
Братья Сорокины (повесть)
1. „Сорокин! Тебе письмо!“
В субботу вечером Сорокин мыл пол в казарме. И конечно, настроение у него было отвратительное. Что-то слишком уж часто приходилось ему мыть полы.
А почему? Что он, хуже других?
Да ни капли!
Или фамилия его старшине приглянулась, не даёт покоя — всё: Сорокин да Сорокин. Можно подумать, других фамилий он и не помнит. Как произнесёт своим старшинским раскатистым голосом: «Сор-р-рокин, кому я говор-р-рю!» — так даже на другом конце военного городка слышно. И мало, что за каждую мелочь, за пустяк каждый закатит наряд вне очереди, так ещё и нотацию прочтёт. Просто не может без этого.
— Вас, — говорит, — Сорокин, характер подводит. Скверный у вас характер, неподходящий для армии. А парень вы вроде неглупый, и выносливость у вас есть… (Это у старшины тоже такая привычка была, такой педагогический приём: нельзя, мол, только ругать солдата, обязательно надо между делом и похвалить его, что-нибудь хорошее вставить, чтобы совсем уж не отчаивался человек.)
А чего Сорокину отчаиваться? Он и сам себе цену знает, получше старшины.
Однажды он не вытерпел и так прямо и сказал:
— Это, товарищ старшина, не мой характер виноват. Это ваш, товарищ старшина, характер виноват. Если бы вы ко мне по каждому пустяку не придирались, я бы… — И тут он прервал себя на полуслове: ждал, что старшина сразу рассвирепеет из-за таких его слов.
Но старшина не рассердился. Он даже как-то добродушно посмотрел на Сорокина и сказал спокойно:
— Устав надо выполнять, устав, тогда я и придираться не буду. Вон ваши товарищи как служат — любо-дорого посмотреть, разве я к ним придираюсь? А вы что? В строй сегодня кто опоздал? Сорокин. На зарядке кто руками шевелил, как умирающий лебедь? Сорокин. Утром сапоги кто не почистил? Опять Сорокин. А говорите — я придираюсь…
— Сапоги… — обиженно отозвался Сорокин. — Так разве я виноват, что моя щётка куда-то задевалась? А я спросил щётку у Вавилина, а он сказал, что отдал её Толстопятову, а пока я искал Толстопятова, он, оказывается, уже успел вернуть щётку Вавилину, а когда я снова, спросил Вавилина…
— Погодите, погодите, — сказал старшина, — а то вы, я смотрю, меня совсем запутаете. Поймите же вы наконец, Сорокин: не то даже самое плохое, что вы ошиблись, что-то не вовремя выполнили, а то самое плохое, что вы каждый раз оправдание себе ищете. Вот уж это никуда не годится.
Подобные обстоятельные разговоры между старшиной и Сорокиным происходили не раз и, кажется, даже доставляли старшине некоторое удовольствие, может быть, он даже предполагал, что и Сорокину они по душе. На самом деле, разумеется, это было совсем не так, потому что сколько бы ни длился такой разговор — десять минут, двадцать или полчаса, — он неизменно заканчивался в пользу старшины.
— Ну вот видите, Сорокин, — говорил он в конце концов, — опять вы пререкаетесь. Придётся вас наказать, раз уж слов вы не понимаете…
Так получилось и в этот раз, в субботу. И теперь Сорокин скрёб половицы и поминал в душе старшину недобрыми словами, причём, и это, конечно, тоже было нарушением устава, потому что поминать недобрыми словами своих начальников, пусть даже и в душе, никому не разрешено.
И вот именно в этот весьма печальный для Сорокина момент он услышал громкий голос дневального Бегункова:
— Сорокин! Тебе письмо!
Бегунков прокричал это таким ликующим голосом, каким, вероятно, в старину матросы после долгого плавания кричали: «Земля! Земля!» Вообще у этого Бегункова была одна особенность: он умел радоваться чужим радостям ничуть не меньше, а может быть, даже больше, чем своим собственным. Кое у кого эта черта его характера даже вызывала раздражение: событие, о котором он сообщал, оказывалось обычно гораздо менее значительным, чем тот восторг, с которым Бегунков возвещал о нём.
И в этот раз письмо оказалось как письмо, обычное письмо из дома, от матери. Конечно, Сорокин ждал этого письма и был ему рад, но всё же ничего сверхнеожиданного, невероятного тут не было.
Сорокин хотел было сначала домыть пол, а потом уже взяться за конверт, но нетерпение пересилило. «Ведро с тряпкой от меня никуда не убежит», — решил он.
Первые слова шли самые привычные: приветы, расспросы о здоровье, о службе… А потом…
Вот что прочёл Сорокин потом:
«Дорогой сынок, соскучилась я очень по тебе, и хочется тебя повидать, и дела мои сейчас сложились так, что могу я приехать навестить тебя. Я узнавала в военкомате — говорят, это можно. Но хоть и соскучилась я, главная причина, отчего решила ехать, другая. Валерка наш совсем разболтался, меня не слушает, озорничать начал, помогать мне — совсем не помогает. В магазин сходить — и то не допросишься. Грубит, я ему слово — он мне десять. Вот я и подумала: свожу-ка его к тебе, ты его приструнишь, пристыдишь как следует. И пусть на жизнь вашу солдатскую посмотрит, может, это подействует. А то боюсь я за мальчишку. А ты подумай, как с ним получше поговорить, тебя-то он послушает. Билеты я уже купила. В понедельник встречай нас».