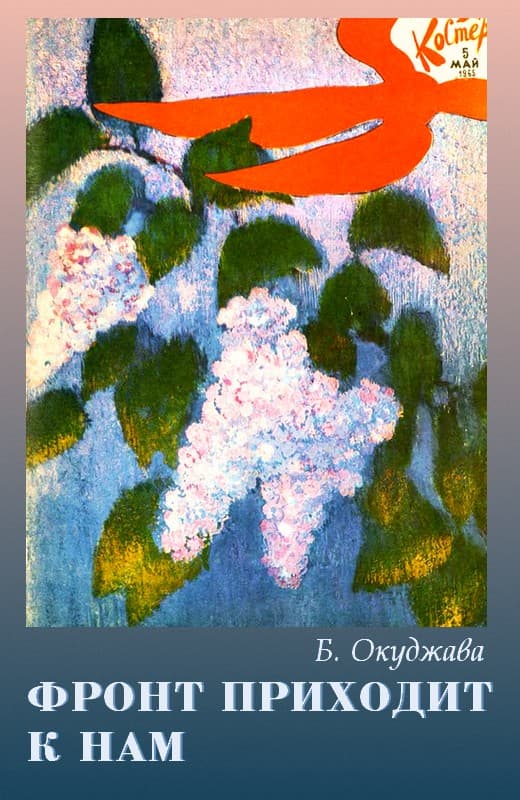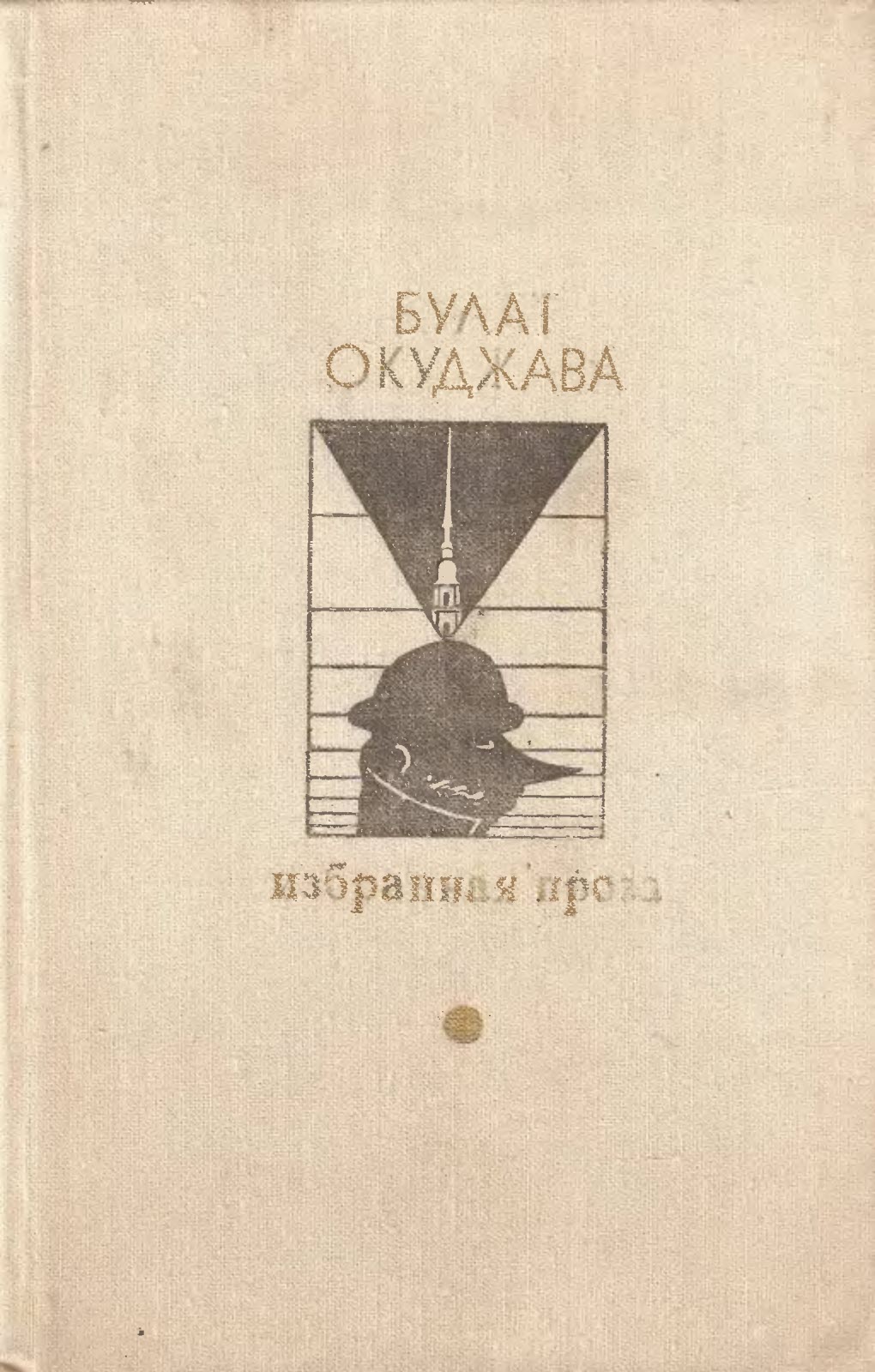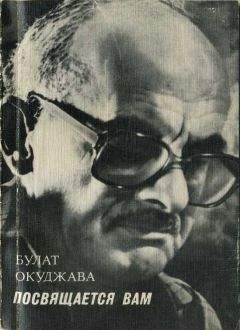ними церемониться… — откуда-то издалека пискнула тетя Аня.
За дверью что-то хлопнуло. И стало тихо.
— Кто там? — спросил дядя Юра.
Мы увидели, как в комнату вошел капитан из военкомата, тот самый, с усиками, а за ним знакомая нам женщина с двумя детьми.
— Вы доктор Корольков? — сердито спросил капитан.
Дядя Юра встал и улыбнулся.
— Это жена и дети командира Красной Армии, — сказал капитан, — предоставьте им комнату с отдельным входом и чтобы никаких попреков и придирок! — И он погрозил пальцем.
— Пожалуйста, — сказал дядя Юра, — разве я возражаю? Мы должны помогать друг другу.
— Мы вас не будем беспокоить, — устало проговорила женщина, — дети очень тихие.
— Нечего извиняться, — очень сердито сказал капитан женщине, — это мы вас вселяем, мы… — и он повернулся опять к дяде Юре, — и чтобы никаких… понятно?
— Все понятно, — пропел дядя Юра, — пожалуйста, мы будем очень рады.
Женька толкнул меня в бок. А мне так захотелось обнять капитана, так захотелось… Но я сдержался.
Позже с веранды мы заглянули в окно. На подоконнике горела коптилка. Стоял котелок. Женщина доставала оттуда картофелины, разламывала их и давала малышам и сама ела. Женька куда-то вдруг исчез. А потом я увидел, как он появился в комнате и протянул женщине кружку с патокой. Она удивилась сначала и стала отказываться. Но Женька бил себя в грудь и что-то шепотом говорил. Тогда она потрепала его по щеке, взяла кружку и сразу же маленькой ложкой стала давать патоку малышам, и они широко раскрывали рты, как скворчата, и жмурились.
Когда мы легли, я спросил Женьку:
— А что если мина взорвется и они погибнут? Как же так, Женька?
Но он успокоил меня:
— Я все обдумал. Их даже осколочком не заденет.
Утром на двери кладовки висел большой замок.
Женька сказал:
— Больше ждать нельзя, Генка. Сегодня ночью мы отправимся. Ты не боишься?
— Нет, — сказал я.
Кроме цепей, терять нам нечего.
Глава четвертая
о том, как началось наше путешествие и как оно протекало
День тянулся страшно долго.
Наконец все заснули. Тихо-тихо. Только где-то кричит паровоз. Вот только сейчас, когда нужно идти, мне стало страшно. Все спят. Куда мы пойдем?
— Женька, давай сегодня поспим, а завтра еще раз все обдумаем, а уж потом, на другую ночь…
Женька встает и на меня не смотрит. Он сопит. Он надевает ботинки…
— Если трусишь, — говорит он, — я один пойду.
Я встаю и надеваю ботинки.
Мы осторожно выходим во двор. У забора за кустами наши богатства. На листьях роса.
— Хорошо, что успели пиджаки взять, — говорит Женька.
Пиджаки лежат здесь же. Мы надеваем их, надеваем сумки.
Луна смотрит на нас. Поблескивает консервная банка — наша мина. Капсюля нет, кладовка на замке.
Женька бьет ногой по банке.
— Осторожно, — говорю я, — взорвется.
Женька снова бьет ногой по банке.
— Ты фантазер, — говорит он, — разве может песок взорваться?
Мы идем по улице, по спящей, по росистой. Луна крадется за нами. Ночью все может случиться. Вдруг поймает нас патруль. Вдруг вернут нас к дяде Юре. Мы идем быстро. Как только можно. Женька впереди, я за ним. И у меня получаются такие стихи:
Прощай. Январск! Прощай, Январск!
Пробил последний час.
Пускай веселый паровоз
Умчит в сраженья нас.
Я читаю их Женьке. Стихи ему нравятся.
Где-то у самого уха кричит паровоз. И перед нами вырастает вокзал.
— Как же мы без билетов поедем? — спрашиваю я.
Но Женька все знает. Он говорит:
— Какие же билеты во время войны? Когда война, ездят только военные или невоенные по военным делам.
— А мы?
— А мы едем на фронт. Сейчас вот придем, сядем в вагон. Выспимся. Утром проводник крикнет: «Граждане, Москва!» Мы идем по Москве. Я там всех ребят знаю. Котька облизнется от зависти.
На вокзале свет тусклый, желтый. Встать некуда. Лежат люди. Плачет девочка на руках у матери. Кто-то ругается. А мы лезем через мешки, через чемоданы. Нас толкают. А мы лезем, лезем.
— Идем на перрон, — тянет меня Женька, — скорей, а то поезд уйдет.
На перроне народу еще больше. Но никто не лежит, все бегают, кричат, толкают друг друга.
«Курский подали!» — и толпа бежит в темноту за перрон.
«А где тут на Ряжск?» — спрашивает кто-то, и кто-то другой кричит: «Да что я вам, справочная?»
И снова крик: «Эй, куда бежите-то? Вон где на Курск сажают!»
И опять бежит толпа, только в другую сторону. Сыплются крышки от чайников, разбиваются бутылки, плачут дети.
— Хорошо, что мы не дети, — говорит Женька. — Ты, Генка, постой здесь. Сейчас я все узнаю.
Потом он возвращается и говорит:
— Вот что я узнал. Нам нужно ехать до Курска, а потом пересадка. Сейчас будут сажать.
И опять мимо нас проносится в темноте толпа.
— Бежим! — кричит Женька.
И мы бежим. Мне жарко в пиджаке. Сумка бьет по боку. Потом все останавливаются. Все стоят и сопят. Кто-то говорит:
— Ну чего вы, как бешеные. Вон же состав подают.
Ближе, ближе белый глаз паровоза. Тук-тук… колеса.
— Всё, — смеется Женька, — сейчас поедем. А ты говоришь, — билеты.
Мы лезем в вагон. Три ступеньки, а как долго. Каждому хочется первым. Какая-то тетка поставила корзинку свою на ступеньку, а я вот-вот свалюсь.
— Тетя, — говорю я, — вы своей корзинкой меня сейчас столкнете…
Но она и не думает убирать корзинку, она кричит:
— А что мне, по-твоему, корзину свою выбросить?!
Кто-то толкает меня сзади, и я через эту корзинку влетаю в вагон. Там темно.
— Женька! — кричу я. Но разве что-нибудь услышишь в такой толкотне?
— Проводник, давай огня! — требует кто-то.
— Женька!
Я пробираюсь по проходу, спотыкаюсь о чемоданы и мешки, меня толкают ногами, сумками, локтями.
— Женька!
Вспыхивает желтый фонарик спички. Я вижу пустую полку. Ну что ж, из вагона не выберешься. Спичка гаснет, а я уже лезу на полку.
— Женька! Женечка!
Кто-то хватает меня за ногу.
— Это ты, Егор?
— Это я, — говорю я.
— Кто я? — кричит человек.
— Генка, — отвечаю я.
— Какой там, к чертям, Генка, давай слазь! Занято место.
Я лечу куда-то вниз, на чью-то корзину.
— Да что же вы с мальчиком-то делаете? — говорит женский голос. Это, наверное, меня защищают. Мамочка, вот хоть один человек нашелся, который за меня заступился. Мамочка, вот я совсем один…
— Ты