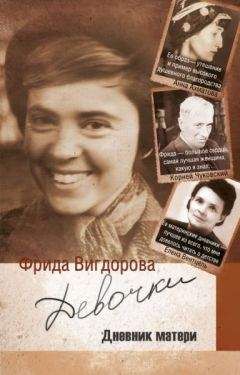Если Антон Семенович куда-нибудь отлучался, вместо него оставался в кабинете кто-нибудь из педагогов, или секретарь совета командиров, или дежурный командир. Все в коммуне знали, что в кабинете есть кто-то, к кому можно обратиться в любом случае – всегда, каждую минуту.
Я старался, чтоб и у нас было так же. Когда я бывал в отлучке, кабинет не пустовал – там оставались Алексей Саввич, Софья Михайловна или Екатерина Ивановна. И нередко само собой получалось, что мы поручали побыть в кабинете Жукову – председателю совета детского дома – или просто дежурному командиру.
Привился у нас и другой коммунарский обычай – совету собираться тотчас, как только возникнет самая маленькая необходимость.
Кабинет мой был не так велик, как кабинет Антона Семеновича в коммуне, – в нем от силы помещалось человек пятнадцать. И не было длинного, неподвижного дивана вдоль стен. Но когда после особого, на этот случай придуманного сигнала прибегали и рассаживались ребята, я всякий раз заново радовался, как привету издалека. Я видел: разумные простые порядки и обычаи, сложившиеся там, за тысячу километров, возникают здесь сами собой, как естественное продолжение всего склада нашей жизни.
И вот собрался совет.
Ребята сели, потеснившись, на диван, по двое примостились на стульях. Нарышкин топтался у двери, пока я не сказал ему:
– Присядь…
Он сел, неловко подобрав ноги под стул; руки тоже сейчас мешали ему: он сунул их в карманы, вынул, положил на колени, потом опустил вдоль тела, да так и остался.
– Надо решить, как мы поступим с Нарышкиным, – сказал я. – Помните, как дело было? В первый день я вам сказал: кто хочет уйти, пусть уходит. Нарышкин захотел уйти. Тебя удерживали, Нарышкин?
Он привстал, но не ответил. Так же как днем, на крыльце, он не поднимал глаз.
– Я тебя спрашиваю, Нарышкин! Тебя кто-нибудь удерживал?
– Нет, – выдавил он наконец, по-прежнему уставясь в пол.
– Что я сказал тебе, когда ты уходил?
Нарышкин вдруг поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза:
– Вы сказали: если заболеешь – приходи, вылечим.
Пришла моя очередь опешить! Сказано-то было совсем иначе: если заболеешь от грязи коростой – желаю, чтоб кто-нибудь тебя вылечил. Но возражать я не стал. Следовало напомнить Нарышкину и ребятам еще кое о чем:
– Мы отпустили тебя по чести, так? А ты с чем вернулся? Пришел раз – украл горн, пришел второй – опять хотел что-нибудь украсть. Но мы тебя приняли и вылечили. Нога больше не болит, ходишь?
– Хожу…
– Так вот, – обратился я уже ко всем ребятам, – думайте, решайте. А по-моему, незачем Нарышкину у нас оставаться.
– Семен Афанасьевич, дайте я скажу, – говорит Жуков. Он встает, внимательно черными глазами оглядывает ребят. – А я думаю, давайте оставим его. Он и сам хочет.
– Мало ли чего он хочет! – отзывается Король.
– Нет, Саня прав, я не согласна с Семеном Афанасьевичем, – говорит Софья Михайловна. – Я за то, чтоб Нарышкин остался. Он мало был среди нас, но я уверена – много понял за эти дни.
– А из чего это видно, что он понял? – с искренним недоумением произносит Володин.
– Может быть, этого пока и не видно, но он, конечно, много передумал, оценил то, что пришел он сюда со злой мыслью, а ему не мстили, наоборот – помогли. Кто же этого не поймет? Нарышкин видит, что здесь живут разумной, интересной жизнью, и я уверена, что он хочет остаться.
По очереди выступают Стеклов, Суржик, Подсолнушкин – все за то, чтоб Нарышкина оставить.
– Пускай сам скажет, – предлагает Король.
Вот это-то мне и нужно: чтоб Нарышкин сам попросил, и не через Жукова, а прямо и перед всеми.
Молчание. Мы ждем. Я знаю, что сейчас происходит в душе у этого рыжего мальчишки. Изумление, страх, недоверие, любопытство, надежда – все смешалось. Да и осень на этот раз мой союзник: куда сейчас пойдешь? Тогда все-таки впереди были весна и лето…
– Мне… Я бы… Я прошу оставить…
Произносятся эти простые слова с длинными, мучительными паузами. Можно подумать, что он заика, Нарышкин.
Голосуем. Все за то, чтоб Нарышкин остался. Я не требую от него никаких обещаний – все разумеется само собой. И сразу начинается деловой разговор.
– Давайте подумаем, в какой отряд его определить, – говорит Екатерина Ивановна.
– Тут главный вопрос: к кому? – Это вступает Суржик.
– То-то и оно – к кому? – говорит Стеклов. – Ко мне не годится – очень уж велик. К Подсолнушкину если… но с Подсолнушкиным у меня на уме другое: я туда, если б не Король, Репина перевел бы. Нечего ему у Колышкина делать.
Король вспыхивает, как ракета, в желтых глазах – злые искры. Но он тут же сдерживается и только цедит сквозь зубы:
– Да что я, без ума, что ли? Переводи давай, мне-то что?
– В самом деле, – неторопливо говорит Екатерина Ивановна, – это ведь не загадка с волком, козой и капустой, которых непременно надо перевозить так, чтобы волк не оставался с глазу на глаз с козой, а коза – наедине с капустой. Королев и Репин – люди разумные, не драться же они будут! А ты, Колышкин, как думаешь: следует перевести Репина?
Колышкин отводит глаза и молчит. Король хмуро посматривает на Сергея – он еще не переварил оскорбления.
– «Там Король»! – бормочет он, передразнивая рассудительную стекловскую интонацию. – Ну и что ж, что Король?
А Стеклова не собьешь, он возвращается к своей мысли.
– Давно бы это надо – забрать Репина от Колышкина, – говорит он, взвешивая слова. – Не место ему там. Не знаю, как вы скажете, а я бы его – к Подсолнушкину.
Подсолнушкин хмурится, ерзает на стуле.
– Лучше нам Нарышкина, – говорит он наконец, – он у нас быстро привыкнет. Мы за ним приглядим.
– Нет! – вдруг решительно заявляет Суржик. – К вам надо Репина. А Нарышкина… Сергей, взял бы ты Нарышкина… Ну и что ж, что маленькие? Ты оберни его помощником, ты ему скажи: вот, дескать, ты постарше, ты и помогай мне.
Ай да Суржик! И я и все воспитатели – мы просто немеем от такой педагогической находки. Но ребята не удивлены, они не видят в предложении Суржика ничего неожиданного и примечательного.
– Помощник… – с сомнением произносит Стеклов. – С чем пришел помощник! Да и сонный он какой-то. Не поймешь, то ли спит, то ли проснулся.
– Возьми, возьми! – вдруг энергично поддерживает Володин. – Возьми, Сергей. Не бойся, не сбежит: вон зима на носу. Сперва потерпит, а потом – что ж, он вовсе глупый разве?
Володин редко говорит на совете, да и то больше не сам что-нибудь предлагает, а «присоединяется к предыдущему оратору». Но есть у него эта способность – рубить сплеча то, о чем другие молчат. Я мельком смотрю на Нарышкина – он обводит всех по очереди ошеломленным взглядом. Едва ли он толком соображает сейчас, что к чему. Ну, да не беда: поймет.
– Дело серьезное, – сказал я. – Надо как следует подумать – к кому, куда, в какой отряд. Мы поговорим об этом на педагогическом совете. А пока, Суржик, возьми-ка ты Нарышкина на свое попечение.
Да, много раз со мной говорили о Колышкине. Не о Репине, а именно о Колышкине. И Екатерина Ивановна, и Алексей Саввич, и Софья Михайловна. Но мне казалось – дело уладится. Весь строй нашей жизни таков, что не сможет отряд Колышкина оставаться какой-то замкнутой группой, где все идет по-своему, по-особенному, не похоже на остальной коллектив. И сколько, раз ни подводил нас отряд Колышкина, сколько раз мы ни спотыкались о то же самое место, мне все казалось: тут не надо спешить, тут все образуется, это именно тот случай, когда время работает на нас. Я видел – видели это и другие, – что многое изменилось в Репине. Стал он проще, яснее. Проснулся у него неподдельный, живой интерес к нашему дому. Я думал: не может это остаться бесследным, не может не отразиться на его отношениях с товарищами, на его поведении в отряде.
К этому времени я уже списался с его родителями, которые жили под Москвой, недалеко от Коломны. Отец Андрея писал мне: «Горячо благодарю Вас за добрые вести, но, признаться, боюсь им верить. Столько раз мальчик возвращался домой и столько раз это снова кончалось катастрофой! Я никого не виню, кроме себя. Я знаю, что мы с женой воспитывали его неправильно, но сейчас поздно говорить об этом, поздно сожалеть, и я только с надеждой думаю о Вашем письме. Я приеду, едва Вы найдете это возможным и нужным».
Мне казалось, что, может быть, скоро настанет минута, когда Андрей встретится с родителями, не принося им больше ни стыда, ни горя.
Но когда начались занятия в школе, Андрей снова утвердился в чем-то прежнем. Он знал больше других. Хорошие способности, счастливая память удержали многое из того, чему он учился когда-то. Ему нечего было делать на уроках немецкого языка, тем более что и разговоры с Гансом и Эрвином пошли ему на пользу. Он грамотно писал, помнил кое-что из географии и истории. И вот в голосе у него снова появилась почти угасшая было высокомерно-покровительственная нотка.