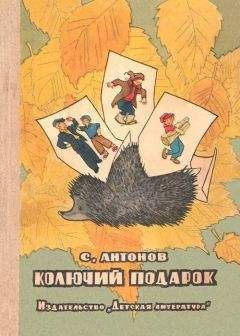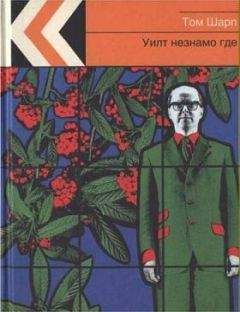Когда поспела малина, Братуха по утрам ходил лакомиться в малинник, неподалёку от избы лесника. Возвращался он домой и облизывался.
Лесник привык к Братухе и говорил с ним, будто тот мог всё понимать. Не всё, но кое-что Братуха понимал.
Веселее стало жить леснику Ивану…
Прошло время.
Ближе к осени сильнее стал шуметь лес. В этот день он шумел особенно беспокойно и сильно. Верхушки высоких сосен раскачивались из стороны в сторону, ходили ходуном над зелёным морем, и с них сыпались иголки, сухая кора и даже сучья.
Во второй половине дня в избу к леснику ввалились два охотника.
— Дед Иван! — крикнули они, не увидев хозяина в сенцах.
За стеной что-то рявкнуло, дверь распахнулась, но в сенцах сейчас же потемнело: почти весь проём двери загородила фигура Братухи, ходившего на задних лапах.
Охотников словно ветром выдуло из сенец. Очутившись на лужайке, они спрятались за соснами, сняли с плеч ружья и стали вести разговор, как лучше убить медведя.
Первый говорил, что лучше всего выждать, когда медведь выйдет на полянку, и дуплетом ударить по нему. Второй говорил, что лучше медведя убить в избе: подойти к ней и стрелять — либо в окно, если зверь в комнате, либо в дверь, если в сенцах.
Но подходить близко к медведю не хотелось, и решили убить его, когда тот выйдет на полянку.
Лесник Иван, уйдя в обход, всё не возвращался, и над его приятелем Братухой нависла смертельная угроза.
Дело было только за тем, чтобы медведь выполз, вышел на лужайку.
А он как раз и не выходил.
Охотники сидели и сидели, искурили уже по три цигарки, рассказали друг другу всё, что приходилось слышать о медведях, а Братуха, словно учуяв заговор против себя, не выходил из избы.
Наконец, когда и у охотников начало истощаться терпение, дверь дёрнулась, словно в неё ударили, и начала медленно отворяться.
— Ну! — сказал один из охотников. — Бьём по команде! Раз! Два!
«Три» он не произнёс: в дверной щели показался кончик скамьи, потом дверь распахнулась, и охотники увидели Братуху, который, стоя на задних лапах, нёс скамью.
Охотники переглянулись, не в силах что-либо понять. Один из них осклабился и засмеялся нервным смехом.
А Братуха выволок скамью на лужайку и сел на неё.
«Может быть, это не медведь, а дед Иван, надев медвежью шкуру, шутит с нами», — подумали охотники.
Но Братуха, посидев несколько минут, поднялся и, переваливаясь из стороны в сторону, стал бегать вдоль избы, как и положено медведю, — на четвереньках.
Никакого сомнения не оставалось: это, конечно, медведь, но медведь необычный.
Натолкнувшись на поленницу, Братуха зарычал, а на землю с грохотом посыпались поленья, иногда задевая и его. Отбежав в сторонку, Братуха выждал время, и затем охотники увидели, как медвежонок стал сгребать поленья в кучу.
Вскоре подошёл лесник Иван и стал угощать охотников чаем, рассказывать им о Братухе.
К поздней осени Братуха подрос, жить и ему в сенцах и леснику Ивану с ним стало сложнее. Братуха чаще и сердитее урчал, всё чаще и чаще пропадал в лесу… «Человек — к человеку, зверь — к зверю», — вспомнил старик свои слова.
Однажды Братуха ушёл в малинник и больше уже не вернулся к леснику Ивану.
Это огорчило и обрадовало лесника. Конечно, одному будет скучнее, но медведю жить нужно там, где рождён.
— Прощай, Братуха, — сказал лесник Иван. — Прощай! Не попадайся только охотникам. А попадёшься — не забудь показать, что ты учёный: может быть, уцелеешь.
И июнь и июль были жаркими и грозовыми. Дома, сараи, стога сена, высушенные за два месяца, в течение которых с неба не упало ни капли дождя, стали как порох. А грозы, проходившие как будто и стороной, с оглушительным сухим треском били с раскалённого неба ослепительными молниями, сжигая высокие деревья, сараи, стога сена, риги.
Малейшая неосторожность с огнём также приводила к пожарам.
Горели леса, горели деревни…
Приткнутые друг к другу дворы передавали огонь дальше и дальше, куда его гнал даже самый слабенький ветерок, — до конца улицы, и огонь полыхал, особенно страшный ночами, смахивая зараз полдеревни.
В августе грозы унялись, но в сентябре объявились снова.
Ребята в школе делились последними новостями, когда в класс вошла учительница Лидия Николаевна. Поздоровавшись с учениками, она недовольно и строго спросила:
— Кто побил Юру Никитенкова? Кто это сделал?
Ребята зашумели, завертелись, выискивая виноватого. Но никто не признался.
— Ну! — повторила Лидия Николаевна.
— Признавайся, кто побил! — поддержали её.
— Будь смелым!
Но и сейчас никто не отозвался.
— Лидия Николаевна, — сказала Валя, чернявая девочка с первой парты, считавшаяся лучшей ученицей, — может быть, это не из нашего класса?
— Из вашего класса! Двое пятиклассников против одного четырёхклассника! Храбрецы!
В классе зашумели сильнее:
— Признавайся, кто побил!
— Подлюги, признавайтесь!
И теперь никто не признался. Класс не знал, кто побил Юрку, но учительница знала.
Рано утром Лидия Николаевна купалась в речке — с купанья она начинала свой день — и вдруг из-за кустов услышала голоса:
«А ну, мальчик с пальчик, давай сюда яблоки!»
«Не дам!»
«А может быть, подумаешь своими мозгами, если они у тебя есть, и отдашь?»
«Не отдам!»
«Лёшка, прибавь ему соображения!»
Лидия Николаевна быстро вышла из воды, вытерлась и стала одеваться. Когда она подошла к кустам, за ними никого уже не было. Густая высокая трава примята так, словно по ней катались. По дороге к селу шли Лёшка и Митя, грызя яблоки, а обиженный, с листьями и травинками в волосах Юра, в рубашке с оторванным рукавом, стоял сбоку у липы и часто и тяжело дышал, вытирая сухие глаза рукой, и с ненавистью смотрел на своих обидчиков.
— Это они тебя? — спросила Лидия Николаевна.
— Нет…
— А кто же?
— Никто…
— Ну хорошо, если так. Купаться шёл?
— Ага…
…Сейчас Лёшка и Митя сидели за партами и с преувеличенно невинным видом смотрели на ребят, на неё, Лидию Николаевну, на портреты Пушкина и Толстого, на берёзы, видные из окна, — на весь мир.
«Когда же их совесть заговорит? — думала учительница. — Не только я — весь класс спрашивал… Или у них нет её?»
Лидия Николаевна могла сказать, что она знает всё, но не хотелось уличать двух неплохих учеников в молчаливой рабской лжи, и было интересно, просто необходимо узнать — неужели у них самих не хватит сил и мужества признаться в бесславном поступке?
Дни шли… После большой грозы ночью в середине сентября никаких происшествий не случилось. Лидия Николаевна внимательно следила за двумя учениками, иногда беседовала с ними, подводя разговор к темам честности и мужества, но они, казалось, и не думали признаваться, не испытывая, видимо, ни малейшего угрызения совести. Какое там!
С каждым днём, узнавала Лидия Николаевна, Лёшка и Митя опускались всё ниже… Кино показывали на площади под открытым небом. На сеанс не стоило большого труда проникнуть «зайцем», и когда киномеханик спросил: «Нет ли здесь безбилетных?» — ребята промолчали.
И, наконец, настал такой момент, когда они стали лгать прямо в лицо.
Однажды сторож колхозного сада встретил Лидию Николаевну в лавке сельпо и, поздоровавшись, сказал:
— Твои-то, Лидия Николаевна… отличились!
— Кто, Петрович? — спросила учительница, смутно догадываясь, не пойдёт ли речь о тех, о ком она не один день думала.
— Кто? Да Лёшка с Митькой…
И сторож рассказал вот что.
Яблоки в саду были уже сняты, остались висеть только плоды антоновки каменной да бабушкиных. Эти зимние сорта лучше всего было выдержать чуть ли не до поздней осени. Потом их снимали, сносили в амбар и к зиме они доходили — вкусные, сочные яблоки, которые свободно можно было хранить до весны. Сторож стал реже заглядывать в сад, по нескольку часов занимаясь в столярной мастерской. Именно в это время ребята и повадились в сад. Чувствовали они себя там довольно безопасно, срывали яблоки с разбором, за этим занятием их и застал неожиданно появившийся Петрович.
— А может быть, это были не они? Вы точно знаете? — спросила Лидия Петровна.
— Да ведь я без очков всё вижу, — сказал сторож, хмуро улыбаясь.
Лидия Николаевна пришла домой, поужинала, стала читать и никак не могла успокоиться.
Она встала, надела тёплую куртку и вышла на улицу. Было темно и прохладно.
Засунув руки в карманы куртки, Лидия Николаевна незаметно для самой себя всё ускоряла и ускоряла шаг. Ей было немного страшно и неприятно.
Лидия Николаевна совсем молоденькая, и дома её просто зовут Лидой. Она тщательно скрывает от окружающих, особенно от ребят, что её очень легко рассмешить. Тот, кто знает эту слабость учительницы, чтобы добиться своего, может показать лишь палец или забавно скривить лицо. Смеётся она звонким раскатистым смехом, и её мать, известная в округе врач и член партийного бюро колхоза, тогда спрашивает: