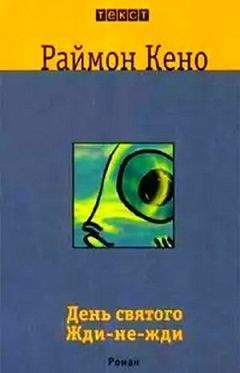Юруня пододвигал мне пирожные в вазе, чинно прихлебывал и заливал:
— Я же не знал, батя. Они сами, у нас там такая шантрапа… Если б знал, я бы его защитил. Ведь мы почти что друзья? Верно, Толик? — прищурился он.
И все строго уставились на меня. Особенно мой отец. Но он-то должен был хоть что-то понимать. Видимо, и он в свою очередь считал, что я тоже должен его понять. Ну, набили морду — в детстве с кем не бывает. А ему теперь, извольте, надо ссориться с начальством. Или, может, он дипломатично считал: сам факт нашего Появления здесь уже поспособствует — его любимое словечко — на будущее благо… Мне хотелось хоть как-то оправдать отца, но все равно — ненавидел его и ненавижу.
— Он у нас стеснительный, — деланно засмеялся отец, потому что я продолжал молчать.
— А на вид боевой, — прогудел Степанчиков-старший, кивнув на мою разукрашенную вывеску.
Юруня пнул меня под столом носком ботинка, а на лице безмятежно сияла улыбочка:
— Друзья ведь?
Я вздрогнул и промычал:
— Угу. Друзья…
— Вот видите, — облегченно вздохнул мой иуда-отец.
Я тихонечко, будто дуя на чашку, засвистел своим особым призывным свистом, мысленно вызывая моих Жуков. И взмолился: спасите меня отсюда!..
— За столом не свистят, — сердито заметил отец. — Стыдно за тебя.
Три ха-ха! Ему, видите ли, за меня стыдно… Привел собственного сына к его палачу да еще и отчитывает. Я смотрел на отца сквозь щелки опухших глаз.
Наконец мое послание собачкам начало действовать: жучки недаром хлеб ели. Отец заерзал на стуле и робко сказал:
— Нам пора… — Он встал, мигом надел фуражку и чиркнул ладонью по козырьку: — Разрешите идти, товарищ подполковник?
— Что вы так официально? — попенял ему Степанчиков-старший. — Вы не на службе, а в гостях…
— Извините, привычка.
— Хорошая привычка, — встал подполковник и попрощался с ним за руку.
Я побрел к двери впереди отца.
— Что надо сказать? — цепко остановил он меня.
Я обернулся своим жутким лицом и промямлил разбитыми губами:
— Спасибо за угощение. — А затем потрогал свои синяки.
Вышло двусмысленно. Но, увы, это была единственная месть, которую я мог себе позволить.
Когда мы шли по двору, я обернулся. Юруня в окне показал мне кулак и исчез. Оказалось, и мой отец обернулся — он тоже все видел.
Ничего он мне не сказал. И только у дома бросил:
— Не связывайся.
Не связывайся… В этом был принцип всей его жизни, да и не только его. Не связывайся, не высовывайся, не вылезай, не замечай… Промолчи, уступи, поддайся. И вся мудрость — выжить любой ценой. Философия шкурника. Причем не того, кто снимает шкуру, а того, с кого снимают, — шкуроносца. Авось не всю снимут, не целиком — пронесет.
Матери отец тогда наплел с три короба: все, мол, в порядке. Я молча кивнул. И она успокоилась.
Я потому не стал возмущаться, что решил сам, даже и без Кривого, убить Степанчикова. Так надежней. Я где-то читал, что почти никогда не раскрыть преступление, которое сделал человек в одиночку раз в жизни.
Правильно говорят: зло порождает зло. Я вдруг захотел, ни мало ни много, поджечь Юркин дом. Однако рассудил: зачем другим-то страдать? Степанчиков такой гад, что сможет еще и спастись, а другим — крышка.
Лучше отравить. Чем? Был у нас где-то мышьяк, крыс в сарае травили. Щедро начинить пончик и угостить Юруню. Пусть думает напоследок, что подмазываюсь. А если не сразу отравится? Если откачают?.. Может меня назвать. Нет, надо чтоб все шито-крыто, иначе какая ж это месть!
Недолго зрел план. Один мой коллега любит повторять: «Раньше фиги росли на деревьях, а теперь зреют в карманах». Ничего, а?
Вот что я придумал: заманить Степанчикова, одного, в развалины маслозавода, а там… Но об этом я еще расскажу. Главное, как заманить? Чего это он попрется со мной один?
И опять мой план остался пока в голове, хотя вскоре я мог бы исполнить его в любой день. Как ни странно, после нашего визита к ним домой Степанчиков и впрямь вдруг стал показывать, что мы с ним по корешам. Подзывал, советовался, хоть и свысока, по любому поводу, к себе в сарай водил — там он свой велик ремонтировал, а я ему помогал. И я потихоньку стал забывать, что ли, о мести — отношения ведь наши круто изменились. Я же не злопамятный, а впрочем…
Как-то мы были вдвоем и в шутку начали бороться у него во дворе. Я тисками зажал его шею под мышкой, и, как ни колотил он сослепу меня, как ни лягался, я давил и давил из последнего, понимая, что он не сдюжит скорее. Ведь кислород перекрыт… В конце концов он захрипел и задергался.
Я отпустил. Он шмякнулся наземь, распахнув рот, дергая кадыком и выпучив свои белые глаза. Ей-богу, серые до белого! Жуткие, если вглядеться, — зрачки расплываются, и глаза становятся как оберточная бумага.
Когда Степанчиков очухался, он бешено, свистя горлом, заорал:
— Я из него друга сделал! — будто о постороннем. — Я с ним вожусь, а он… — И потом выложил все, что про меня думает. Мразь, мол, самая распоследняя, ничтожество, его, так сказать, приблизили к себе, а он, тля, возомнил!..
Но заметь, и пальцем не тронул. Понятно, никого своих вокруг не было, не посмел. Шея-то — вот она, еще болит, помнит мой железный захват. Эх, если б он кинулся, я б его так отделал, свои б не узнали! Тот прежний страх у меня враз прошел, и я даже удивлялся: как мог бояться эту козявку?
Так мы и не схватились. А на следующий день мой страх вернулся опять. Достаточно было вновь увидеть Степанчикова — с Соколовым и пацанами. Всю мою случайно приобретенную уверенность начисто смыло. Дух был слишком рабский. Но глоток свободы я все-таки вдохнул, когда вчера Степанчиков задыхался. Об этом как-то помнилось, и сам Юруня помнил — по глазам видно.
Зато Соколов ничего не знал и потому ничего помнить не мог. Степанчиков его науськал, и тот меня мигом избил. Лицо почему-то не трогал — видать, предупредили, слишком заметно будет, — старался в живот бить. А Степанчиков, святой, нас разнял, когда вмешались прохожие. И своему бате, очевидно, о том прокаркал, потому что вечером мой отец доложил матери:
— …Вот видишь, Юра Степанчиков за него теперь заступается!
— А кто тебя к ним послал? — возгордилась она и повернулась ко мне: — Ты с Юрой дружи, у них и семья хорошая, интеллигентная. Чего не ешь?
Как я мог есть, если у меня все печенки отбиты.
— Нелюдимый какой-то, — неприязненно взглянул отец.
— Весь в тебя, — не осталась в долгу мать.
Она, наверно, была права. В кого ж еще? Сейчас-то я бы сказал: гены виноваты. А попробуй их пересиль!
Попозже ко мне заглянул Кривой.
— Я тебе тут принес… — прошептал он, вызвав в коридор, и достал из кармана махонькую баночку. В ней золотился мед. — Ух как полезен! Ты теплой водой его разведи и весь выпей. Только сразу. Сильно болит?
Он потрогал мой живот, я чуть не вскрикнул.
— Пройдет, — уверял Кривой, — с меда-то. Древнейшее средство. Еще фараонов медом лечили — соты в пирамидах нашли! Пчелы на тысячи цветов садятся, а среди них много лечебных. Они все лечебные травы опыляют — поможет!
И помогло. Кривой полагал, от меда.
А я-то знал, кто меня выручил уже в который раз. Достаточно лишь призывно посвистеть — и…
У вас фантиками увлекались?.. Вот и у нас тоже. Дурацкая забава. Больше девчонкам подходит. Поесть конфет приходилось редко, зато фантики собирали. Хранили, меняли, играли, чей фантик чужой покроет. Особенно ценились красочные обертки от дорогих конфет, с золотым и серебряным фоном. А уж от плиток шоколада — цены нет!
Лопухи, вроде нас с Кривым, собирали, а Степанчиков с Соколовым — торговали. Я все удивлялся, откуда у них целые пачки гладких, новеньких, одинаковых фантиков. Секрет раскрылся просто. Воровали с конфетной фабрики.
Тягучий, сладкий, с примесью ванили запах обволакивал Кольцовскую задолго до подхода к самой фабрике. Она была отгорожена от улицы высокой, из выкрошенного кирпича оградой. Там рядом, кажется, еще протезная мастерская была, и нередко изнывала очередь инвалидов. Они заходили и выносили шарнирные суставчатые протезы, похожие на ноги от рыцарских лат…
Чего-то я разболтался — на воспоминания потянуло. Когда вспоминаешь, любой лопух в прошлом пальмой кажется…
Итак, однажды Соколов нам приказ передал от Степанчикова: как стемнеет, полезем на фабрику за фантами. А мы знали, что там сторожа и собаки. Веселенькое дело предстоит!.. Прав был Кривой: лучше уж сразу в тюрьму сесть, чем постепенно садиться.
Вечером мы собрались на Кольцовской под толстенным необъятным тополем, говорят, еще времен Петра Первого. Когда тополь зацветал, он мог запорошить пухом полгорода.
Нас было человек пять, не считая Степанчикова и Соколова. Так сказать, теплая компания. Пятеро подневольных и двое господ.