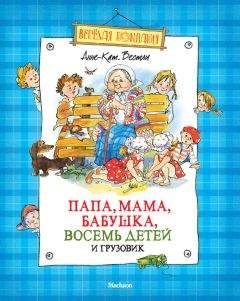— Концерт пляски!
И стал плясать так, что первые ряды встали со своих мест и отошли в стороны к стенам, — он поднял столько пыли, что даже двадцать сестёр Трендафиловых не смогли бы этого сделать. Некоторые стали чихать и кашлять. Способный всё-таки Санька человек, ничего не скажешь! Кончив плясать, он сразу, даже не отдышавшись, запел новую песню. Он, видимо, боялся, что ему не дадут ещё раз спеть. Песня была о том, как любимая провожала на войну солдата, и когда доходило до слов «руку жала, провожала…» — Санька подбегал к самому краю сцены, даже казалось, он может свалиться вниз, и протягивал зрителям обе руки в крепком пожатии. В этом месте некоторые почему-то смеялись, но Санька на таких людей никакого внимания не обращал (не такой он был человек!) и спел до конца всю песню.
Когда он кончил, раздался прямо гром аплодисментов, Санька подождал, когда все успокоятся, и сказал:
— А сейчас я вам прочту стихи собственного сочинения, которые называются «Да здравствует лето».
Да здравствует лето,
Да скроется тьма!
Да здравствует это,
Но не зима!
Нет, лучше я буду купаться,
Чем с горки на лыжах кататься!
В траве лучше буду валяться,
Чем на морозе болтаться!
Послушайте, люди, меня,
Послушайте лучше поэта,
Своими стихами звеня,
Я славлю не зиму, а лето!
Но если попросят меня,
Прославить не лето, а зиму.
То я, ничего не тая,
Своими стихами звеня…
В этом месте Санька остановился и сказал:
— Тут у меня как бы обрывается…
Все засмеялись, захлопали, а Санька сказал:
— Я вам могу прочесть другое своё стихотворение, если вы не устали…
Зрители опять захлопали, давая этим понять, что они нисколько не устали, и Санька сказал:
— Тогда — пожалуйста! Только названия у меня пока нету, и я буду без названия, если можно…
— Можно! Можно! Мы не устали! — закричали зрители.
— Тогда я начну:
Метёт метель за окном,
Мать веником пол метёт…
А я сижу за столом,
Пишу, что на ум придёт…
Санька вдруг тяжело вздохнул и сказал:
— В этом месте у меня тоже обрывается…
К нему шёл вожатый.
А Санька вытащил из кармана два платка и стал ими махать в воздухе. Я сразу понял, что он собирается фокус показать, но другие, наверное, не поняли и продолжали хлопать. Вожатый подскочил к Саньке и стал ему что-то на ухо говорить. А Санька махал платками и не хотел слушать.
В конце концов он спрятал свои платки в карман и совершенно жутким, печальным голосом объявил следующий номер. После этого ушёл со сцены, вызывающе покачиваясь.
Больше Санька со своими номерами не выступал, только выходил объявлять другие номера. Как только он появлялся, зрители оживлялись, смеялись и хлопали. Они его очень тепло, с большой радостью встречали.
После окончания зрители только и говорили о Саньке, какой он замечательный парнишка, забавный парнишка, симпатичный парнишка, удивительный парнишка, редчайший парнишка и ещё какой-то там парнишка. Хотя я бы такие стихи тоже мог бы сочинить, и спеть мог бы (и не хуже), и Пушкина мог бы прочесть даже лучше, и сказку писателя Козлова я тоже читал и мог бы её пересказать. Я всё это мог сделать не хуже, но я этого не сделал, а он взял да и сделал, вот и получается, что самое главное — сделать, а не подумать. Если ты ничего не сделал, никому не показал, то никто и знать не будет, что ты мог. Я твёрдо решил на каком-нибудь вечере в школе выступить с разными номерами, мне тоже захотелось стать замечательным, забавным, удивительным, редчайшим, симпатичным парнишкой… Только вот смогу ли я сплясать? Вот это неизвестно… но если потренироваться как следует перед зеркалом, то непременно смогу, а если не смогу, заменю пляску художественным свистом — слух у меня неплохой и свистеть умею…
Зрители долго ещё хлопали, не уходили, а рыбак сзади мне в ухо носом шмыгал. Мы с ним вместе вышли.
— Пошли Саньку искать, — сказал я.
— Мне рыбу надо ловить, — сказал он.
— Ты уже простудился, — сказал я.
Он шмыгнул носом.
— А ты откуда знаешь?
Я шмыгнул носом, как он.
— Теперь-то я в лодке ловлю, — сказал он.
Он всё хотел уйти от меня, быстро шёл, а я вижу такое дело, лодка у человека есть, ни на шаг не отстаю.
Потом он побежал, а я за ним, тем более мне показалось, начальник лагеря в нашу сторону направлялся…
Он остановился на дороге.
— Ну, чего ты бежишь за мной?
Мы с ним запыхались, стоим, друг на друга смотрим и дышим тяжело.
— Слушай, долго ты так за мной бежать будешь?
Я молчу.
— Если ты так за мной бежать будешь, я не знаю, что тебе сделаю!
Он повернулся и пошёл. А я за ним. На таком расстоянии, чтобы он мне ничего не сделал.
Он опять остановился.
— Послушай, — кричит, — у меня там удочки спрятаны, не желаю я, чтобы все знали, где у меня удочки спрятаны!
— Я на твои удочки смотреть не буду, ты меня только в лодку возьми, зачем мне твои удочки!
— А ты отвернись, раз тебе мои удочки не нужны!
— А ты в лодке меня покатаешь? — спрашиваю.
— Да чёрт с тобой, садись в лодку, только не гляди, куда я удочки прячу!
Я отвернулся, он свои удочки достал и говорит:
— Смотри, чтобы в лодке шум не производить!
Я ему обещал, что шум производить не буду, и мы в лодку влезли.
Как только немного отъехали, я говорю:
— А что, если на тот берег к нахимовцам катануть? Посмотрим, как там нахимовцы живут, и обратно.
— Больше мне делать нечего, как к нахимовцам ехать, чего это я там не видел! Ты сиди да шум не производи!
— А что, если, — говорю, — я за лодку уцеплюсь и буду плыть, а ты меня будешь везти?
— Да ты что, — говорит, — шутишь, что ли? Как же я тогда рыбу буду ловить? Ты лучше гляди, нет ли коров поблизости, они нам рыбу нашугают…
Коров не было видно, и я сказал:
— Неплохо всё-таки к нахимовцам катануть…
В это время он якорь бросил и мне не ответил. Я всё смотрел на тот берег, а он удочку разматывал.
Он удочку забросил, а я хотел воду рукой зачерпнуть и чуть лодку не перевернул.
— Не производи шум! — заорал он.
Я встал, чтобы шум не производить, а лодка так закачалась, что я чуть в воду не свалился.
— Ну-ка сядь! — орал он. — Ну-ка сядь! Вот чурбан! Не смей мне шум производить!
Он стал вытаскивать якорь и всё повторял, что в этом месте теперь нет смысла рыбу ловить, она вся ушла.
Мы уплыли в другое место, а я всё думал, как бы на тот берег к нахимовцам попасть.
Он снова бросил якорь.
Я старался шума не производить и сидел не двигаясь.
Но рыба не ловилась.
— Чего же это такое, — сказал я, — никакого шума нет, и рыбы нет…
Он во все глаза на свой поплавок глазел, а мне надоело на него глазеть, раз ничего с ним не случается.
— Никакой тут рыбы нету, — сказал я, — всё ясно…
Он глаз с поплавка не спускал и молчал.
— Да где же рыба! — говорю. — Нету никакой рыбы!
Он на меня посмотрел и спрашивает:
— А?
— Хорошо бы на тот берег, — говорю, — поехать, раз рыбы нет.
В это время его поплавок под воду ушёл, а он как раз со мной разговаривал. Он дёрнул, да поздно. Весь червяк рыба съела и ушла.
Он как закричит:
— Если ты мне ещё про тот берег скажешь, я не знаю, что тебе сделаю!
Насадил он нового червяка, забросил и сидит, опять на свой поплавок смотрит. Только он в другую сторону забросил, и мне не видно стало поплавка, и я осторожно пополз, чтобы поплавок увидеть. И тут я рукой банку с червями задел, и она в воду бултыхнулась. Я не знал, что это за банка такая, и ползу себе дальше как ни в чём не бывало.
Он ко мне спиной сидел.
Повернулся и как заорёт:
— Что ты наделал!
А я сразу не понял, что это банка с червями, и говорю:
— Какая-то коробочка упала…
— Немедленно, — кричит, — убирайся от меня! Уходи сейчас же! Тут же уходи! Сматывайся сию минуту! Сию секунду проваливай!
— Да как же я сию секунду уйду, если вокруг вода…
Он стал грести изо всех сил к берегу, и всё ругался, ругался, и кулаком мне грозил, и себя ругал за то, что взял меня, а я только делал виноватое лицо — чего же я мог ещё сделать!
Я ему даже «до свидания» не сказал, выпрыгнул из лодки и пошёл.
А он мне вдогонку крикнул:
— Дурень несчастный, тунеядец, балбес!
Я повернулся и кулаком ему погрозил. Какое он имеет право меня разными словами обзывать!