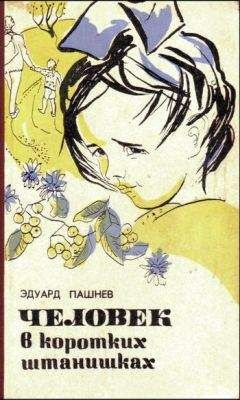— Света зажигать мы не будем, — сказал он, — поговорим так.
Девочки притаились.
— Спите, разбойники, или притворяетесь?
В его голосе не слышалось вражды и нравоучительных интонаций, и девочки осторожно зашевелились.
— Спим, — грустно сказала Надя.
— Дрыхнем без задних ног, — поддержала ее Оля.
— Ага, — подтвердила Люда.
— Насколько я понимаю, отозвались все главные виновники происшествия.
— Не все, — вздохнула Рита.
— Еще одна объявилась. Теперь все?
Марат говорил и чувствовал: нет в его голосе металла. Он отчетливо понимал, что не подходит со своим маленьким ростом и улыбчивым настроением для строгого педагогического разговора. И вообще он не понимал, зачем Милана послала его сюда. Ну, бросалась Надя Рощина подушками. Ей же в конце концов не сорок лет, а пятнадцать. Было бы странно, если бы она не бросалась.
— Ну и хорошо, что спите, — сказал он. — Это от вас и требуется. Обсуждение вашего поведения отложим на утро.
— Нет, Марат Антонович, так не годится, — сказала Оля, — сами говорили, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра мы еще что-нибудь натворим.
Она тихонько засмеялась. И на других кроватях послышались смешки.
— Значит, вы все-таки не спите?
— Мы проснулись, — сообщила Рита. — Правда, девочки?
— Мы проснулись, чтобы вы нас немножко повоспитывали сегодня, — мечтательно произнесла Люда, глядя в потолок.
Девочки уловили, что он хочет сбежать от обязанностей взрослого человека, не желает читать им нотации, и радостно оживились.
— Ну и ну, — засмеялся он. — Какие вы, оказывается, невоспитанные. Не можете уснуть без колыбельной песни.
Всех рассмешило, что Марат назвал нотацию колыбельной песней. Люда от восторга пискнула, Ира Апрель-май так громко хмыкнула в одеяло, что вызвала оживление в палате.
— Ну, так вот, — остановил их вожатый, — подушками бросаться нехорошо. Это безобразие. Я вполне согласен с Миланой Григорьевной. И вы согласны с ней и со мной, а значит, делать этого больше не будете. А будете сейчас спать без задних ног и видеть цветные и черно-белые сны. Спокойной ночи!
— У-у-у! Так коротко, — огорчилась Оля. — Колыбельные песни не бывают такими короткими. Колыбельная песня должна быть длинной и красивой.
— Вы что, — засмеялся вожатый, — может быть, в самом деле собираетесь заставить меня петь колыбельные песни?
— Мы будем лежать тихо-тихо, — пообещала очень серьезная Ира Апрельмай.
— Забавно, — покачал головой Марат. — Я не знал, что мне придется петь в Артеке. Нас этому не учили.
— А вы расскажите, как стихи, — предложила Оля.
В палате возник шумок, подтверждающий, что все согласны с Ирой Апрельмай и Олей. А потом наступила тишина ожидания. Слышно было только, как шелестит ветер шторой и далеко внизу накатывается на гальку и сползает назад море.
Марат решил все обратить в шутку. Он театрально кашлянул и продекламировал первые две строки колыбельной песни, которые ему показались подходящими для такого случая:
Баю, баюшки, баю,
Баю Оленьку мою.
Никто не пошевельнулся, все ждали продолжения. Смущенный вниманием, которое с каждым мгновением все нарастало, он прочитал дальше:
Как на зорьке, на заре
О веселой о поре
Птички резвые поют,
В темном лесе гнезда вьют.
Соловейко-соловей,
Ты гнезда себе не вей,
Прилетай ты в наш садок,
Под высокий теремок,
По кусточкам попорхать,
Спелых ягод поклевать,
Солнцем крылышки попреть,
Оле песенку пропеть.
— Это вы с ходу про Оленьку сочинили? — удивилась Люда.
— Нет, это Римский-Корсаков сочинил. В опере «Псковитянка», вернее, в прологе к опере, эту песенку поет своей дочери Оленьке Вера Шелога. Отцом Оленьки был Иван Грозный.
— У нашей Оли отец Иван Грозный, — хохотнула Ира Апрельмай, но ее никто не поддержал.
— Марат Антонович, а еще какие-нибудь колыбельные песни вы знаете? — тихо спросила Надя.
— Знаю, — он щелкнул в воздухе пальцами. — Я вам прочту колыбельную песню Марины Цветаевой:
Дыши, да не дунь,
Гляди, да не глянь,
Волынь-криволунь,
Хвалынь-завирань.
Колыбельную песню Цветаевой Надя слушала с особым настроением доверчивости и благодарности. Ей казалось, что ту, первую, вожатый прочитал для Оли и для всех, а эту читает только для нее:
Лежи, да не двинь,
Дрожи, да не грянь,
Волынь-перелынь,
Хвалынь-завирань.
Слова были непонятные, колдовские, но музыка их завораживала, убаюкивала.
Марат читал с удовольствием стихи. Когда Милана приложила ухо к двери, она услышала:
Лови, да не тронь,
Тони, да не кань,
Волынь-перезвонь,
Хвалынь-целовань.
Милана на цыпочках отошла от двери. Она была в недоумении. Она не понимала, что происходит. Да и Марат не понимал. Он читал все новые и новые песни, которые слышал в детстве или узнал уже взрослым: и «Казачью колыбельную» Лермонтова, и андалузскую Гарсиа Лорки, и колыбельную песню Моцарта. Он купался в тихой музыке, доносящейся к нему из страны детства, как купаются сказочные герои в молоке, чтобы выйти обновленными. Его московские госфильмофондовские знакомые страшно удивились бы, если бы узнали, как странно на него повлиял Артек. «Впал в детство», — сказали бы они.
«А может быть, выпал из скучной взрослости?» — подумал Марат. Там, дома, в Лаврушинском переулке, в его кабинете на стене была фреска. Он проспорил эту стену одному известному актеру, который баловался живописью, писал картины по сухой штукатурке. С дерзостью самоуверенного дилетанта актер изобразил в центре умопомрачительное языческое солнце с отходящими в стороны рогами буйвола, а по краям поместил двух обнаженных женщин. На коленях у них сидели синие птицы. «Хорошо бы закрасить хищные кричащие тела женщин, — подумал он, — и попросить Надю Рощину нарисовать на этом месте что-нибудь тонкое и нежное, как колыбельная песня Моцарта».
После ухода вожатого Надя заснула не сразу. Она лежала с закрытыми глазами и молчала. Ей хотелось продлить ощущение непонятной тревоги, от которой сладостно замирало сердце.
Бег солнечных разноцветных каруселей продолжался. Под звуки горнов и бой барабанов хоровод мальчишек и девчонок мчался через стадион, костровые площади, крыши соляриев, через раздвинутые стены палат. У Нади кружилась голова от высоты и счастья. На одну минуту с этих каруселей сдернул ее Тофик Алиев, чтобы показать волны при луне, на одну минуту ее сдернула Оля, чтобы поговорить по секрету.
— Как ты считаешь, Марик, по-твоему, красивый? — спросила подружка.
Они стояли в темной аллее Нагорного парка. Прозвучал сигнал отбоя, но Оля не пускала Надю, ждала, что та ответит.
— Марик?
— Ну, наш вожатый. Он же Марик. Сколько раз тебе говорить?!
— Марат Антонович, — поправила ее Надя испуганным голосом. — Не знаю.
В темноте ярко белели форменные рубашки девочек, стоящих друг против друга. Глаза немного привыкли к сырому сумраку ночи, и свет от рубашек высветлил лица. Во взгляде одной девочки было замешательство, во взгляде другой — смущение, прикрываемое уверенными словечками.
— По-моему, он ничего себе, наш вожатый, хоть и маленького роста, — сказала Оля. — С колыбельными песнями у него получилось ничего, да? Классно прочитал. Как ты считаешь? Он тебе нравится? А знаешь, кто был самым первым вожатым?
— Кто? — спросила Надя, чтобы не отвечать на первый вопрос.
— Пугачев, — засмеялась подружка, — в «Капитанской дочке». Помнишь, там есть глава «Вожатый»? Он для Гринева был вожатый, когда они заблудились в буране. А Марик для нас вожатый, хоть мы и не заблудились.
Она говорила шутливо, но обстановка, в которой все это происходило: сырая темнота, тревожно шумящие деревья, — делала их встречу серьезной и важной. Когда Оля произнесла имя Пугачева, что-то кольнуло Надю. Перед глазами промелькнуло несколько портретов Пугачева из коллекции вырезок, которую собирал отец: гравюра Рюотта с цепью на переднем плане, портрет, заказанный Пушкиным для «Истории пугачевского бунта». Имя второго художника она не помнила.
— У них глаза похожи, — сказала Надя. — У Марата Антоновича и у Пугачева глаза похожи.