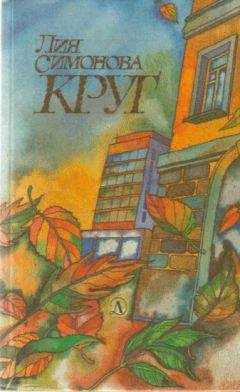— Подумаю, — пообещала Маша.
Тут из школы выбежала Олеся, пролетела мимо Анатолия Алексеевича и Клубничкиной, не видя их, ничего не различая перед собою. Маша бросилась за нею, догнала, обняла крепко, спросила:
— Виктория?
Олеся кивнула.
— Гадина! Гадина! — отчаянно закричала Клубничкина. — Ненавижу! — И горько заплакала.
Анатолий Алексеевич растерялся, потом сказал:
— Поехали ко мне, посидим, поговорим, чаю попьем. Мама варила много варенья. Ее уже нет, а варенье осталось.
Он думал, они откажутся, а они обрадовались. Им некуда было идти, не с кем поговорить. И он вдруг осознал: их не как-нибудь надо выслушать, а так, как это делали старые доктора, прикладывая ухо к самой груди.
Дома у Анатолия Алексеевича было тепло. Попыхивал электрический самовар. Мягкий, неяркий свет электрических свечек на стене над столиком, где они устроились пить чай, казалось, согревает. Девчонки успокоились, растаяли в мягких креслах.
Клубничкина спросила:
— Это ваша комната?
— Это комната моей мамы, — ответил Анатолий Алексеевич, — она тоже преподавала историю, и ее ученики любили собираться за этим столом.
— Странно, — сказала Маша, оглядываясь по сторонам, — Слишком уж молодежная комната… — Перехватив недоуменный взгляд учителя, пояснила: — Все живое… Книги, раскрытые на письменном столе, даже с закладками. Пластинка на проигрывателе… Значки…
— Я все тут оставил, как было при маме, — с грустью пояснил Анатолий Алексеевич.
— Да я не об этом. — Клубничкина не понимала бестактности своего поведения. — Я не видела у взрослых таких живых комнат. Большинство покупает книги для интерьера. Стерео, чтоб не хуже, чем у других… Я спрашивала их, чем отличается джаз от рока, а рок от диско? Не знают. Но заявляют, что современная музыка им не нравится. «Горлопанит»! Мешает. А они хотят покоя! Чтобы их не трогали. Это главное. Их ничто уже не волнует!.. Ну, а значки у взрослого?.. Как-то не укладывается…
— Мама собирала их всю жизнь. Особенно те, что имели отношение к детству, к образованию, к пионерской организации. Получилась коллекция…
— Извините, — опомнилась Маша.
— Чем же, по-твоему, живут взрослые? — задал вопрос Анатолий Алексеевич.
— Господи, да они и не живут вовсе, — безразлично пожала плечами Клубничкина. — Делают вид, что живут. Видимость жизни. — Глаза ее сузились, презрительная улыбка искривила рот, — Будто работают. Будто веселятся. Будто стремятся к чему-то. А сами безрадостные… Показуха! Везде одна показуха!.. И знаете, когда некоторые взрослые слишком уж налетаются перед носом, да еще норовят на нос сесть, приходится отмахиваться.
Она говорила грубо, с вызовом, и у Анатолия Алексеевича испортилось настроение. Дубинина сразу почувствовала это.
— Машка, ты чудовище, — сказала она тихо, мягко, но ее слова отрезвили Клубничкину. Она сразу стушевалась, опустила голову.
Олеся как бы извинилась за подругу:
— Вы на нее не обижайтесь, Анатолий Алексеевич. Она человек-репейник. Прицепится, уколет и торчит. К ней надо привыкнуть. Сережка легкий был человек и то иногда обижался… — Глаза ее стали наполняться слезами.
Анатолий Алексеевич помнил, как оглушила, раздавила и ребят и взрослых гибель Судакова.
…Сергей отправился с мальчишками-«фанатами» на матч «Спартака». «Спартак» в тот день играл неудачно, но перед финальным свистком неожиданно забил гол. Все, кто уже устремился с трибун к выходу, задержались, остановились, образовалась давка.
Мальчишки пытались прорваться к своей команде на поле и прыгали через ряды сидений, расталкивая возбужденных победой болельщиков. Кто-то отпихнул Сергея, кто-то наступил на его длинный, размотавшийся в толчее красно-белый шарф. Сергей не удержался, упал под ноги мечущихся людей…
Тягостная атмосфера, которая к тому времени сложилась в школе, стала и вовсе невыносимой. Родители забирали детей, жаловались районному начальству, обращались и в самые высокие инстанции. Директора школы освободили «за ослабление воспитательного процесса», как было сказано в приказе. Ребята же, наслушавшись взрослых разговоров, со свойственной им прямолинейностью, говорили: «Поперли директрису, потому что турнули на пенсию ее министра. А пока он властвовал, «госпоже министерше» все позволялось и школа считалась образцовой».
До конца года исполняла обязанности директора Виктория Петровна. Трудное пережили время…
— Сережка был умный, веселый, с чувством юмора, — сказала Маша и посмотрела на подругу. — Забежит на перемене к нам в класс, пошутит: «Ну, гномы, как тут моя Белоснежка? Не забывайте, гномы, что я старший и самый неотразимый!» Он же старше нас был на год. До сих пор не верится, что больше не придет, не споет: «Главное, ребята, что? Сердцем не стареть!..»
Анатолий Алексеевич с тревогой посмотрел на Олесю. Она сидела с отсутствующим видом, и все, что происходило внутри ее, оставалось скрытым от посторонних глаз.
— Вы говорите, Сергей умный, с чувством юмора, зачем же ему фанатизм? Он увлекался спортом?
Маша не сразу отозвалась:
— Это сложно. Хотя что сложного? Понимаете, Пирогов интересуется экономикой, историей, искусством, его друг, Кустов, — информатикой, языками. У Кожаевой — биология, у Холодовой — школа юных журналистов, балалайка… Но есть же и такие, кто не определил еще пока своего интереса… А выделиться чем-то среди других всем хочется…
— Ну, а Сережа?
— Сережа?.. — Олеся будто пробудилась, на ее лице появилось заинтересованное выражение. — Сережу замучили родители. Отец заявил, что гуманитарные науки у нас бесправны и хватит того, что на это ушла его жизнь. Настраивал Сережу на естествознание, для которого вроде теперь дорога открыта, а у Сергея с математикой нелады. Какая ж химия или биология без математики? Стали родители завлекать Сергея археологией, посылали в экспедицию с приятелем. Вернулся он оттуда злой. Распевал: «Главное сердцем не стареть!» — но я чувствовала, что человек потерялся. И родительские подсказки не по нему, и самостоятельно ему думать мешают… «Фанской» жизнью он себя обманывал. Вроде дело есть и друзья рядом. В куче легче. Самому с собой страшнее…
— Может, я не понимаю чего-то, — спросил Анатолий Алексеевич, — но разве так уж интересно взрослым ребятам из года в год заниматься одним и тем же: собирать фотографии спортсменов, вырезки из газет и журналов с сообщениями о матчах, орать: «В Союзе нет еще пока…»? Чушь какая-то…
— Но зато всем доступно. И всегда можешь рассчитывать на поддержку своих, — убежденно сказала Маша. — А это важно. Комсомольцам, случись что, на тебя наплевать. Киссицкой какой-нибудь разве до других есть дело? А тут, хоть ночью тебе позвонят, ты побежишь и, если надо, будешь своих отбивать от «фанов» другой команды. Но и к тебе, стоит позвать, прибегут свои. И ты живешь уверенно, знаешь, что тебя защитят и поймут. И это многих устраивает.
— Ну, а на уроке зачем вы кричите: «В Союзе нет еще пока», красно-белыми шарфами обматываетесь, вы что, тоже «фанаты»?
— Да это так, игра, — смутилась Дубинина. — От учителей отбиваемся…
— А Прибаукин? Он тоже играет?
— У Прибаукина свои заботы, — уклончиво ответила Олеся.
Анатолий Алексеевич уже знал, как только заходит речь о ком-нибудь из их товарищей, они становятся неприступными крепостями. Штурмовать ему не хотелось.
Ни о чем серьезном в тот вечер больше не говорили. Пили чай с вареньем и слушали музыку. А когда девчонки совсем собрались уходить, Маша вдруг сказала:
— Вам не нравятся наши игры? А ваши игры вам нравятся? Правила, по-моему, одни и те же.
— Какие правила? — Анатолию Алексеевичу стало не по себе.
— Будто не знаете? — недоверчиво покосилась на него Клубничкина и снисходительно улыбнулась, — Убегать, чтоб не осалили…
Ночью Анатолий Алексеевич не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал, как мечется за окном ветер, и пытался представить себе, что посоветовала бы ему мама? Вспомнил, как она пришла однажды из школы, потрясенная жестокостью своего ученика, долго не могла успокоиться и говорила, что дети становятся жестокими и неуправляемыми, когда теряют веру во взрослых, уважение к их словам и поступкам.
Он спросил тогда, как же поступать в такой момент? И мама не задумываясь ответила: «Только не выяснять отношений. Бесполезно. Влиять в такой момент бесполезно». Улыбнулась и добавила: «Поступать надо как труднее всего — лечить терпением, ждать и надеяться. Если не на полное выздоровление, то хотя бы на улучшение душевного самочувствия…»
Анатолию Алексеевичу казалось, что он и теперь слышит голос мамы. Вероятно, он все-таки задремал и уже в дреме думал о том, что ни разу после смерти матери не видел так явственно ее лицо, глаза, улыбку…