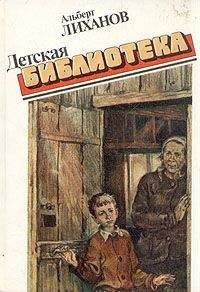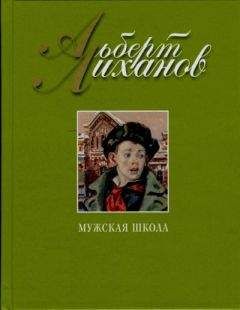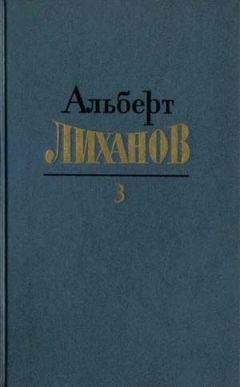Нет, я не понимал. Да и вид мой, наверное, выражал это.
– Никто его не покупает! Никто не решается в таком ходить! Бархатное! Дореволюционное! А сейчас война!
Я вздохнул. Наконец-то разобрался до самого до конца.
– Все понял? – спросил Артур. Я кивнул. Он сказал: – Ну, иди.
– А ты? – не понял я.
– А я здесь живу.
Мы стояли возле двухэтажного дома, как говорили в нашем городе, «низ каменный, верх тесовый».
– Это тайна? – уточнил я.
– Какая же тайна? – ответил Артур вопросом. – Только про пальто не надо, – сказал он, подумав. И спросил: – Ты человек надежный?
Я быстро кивнул.
– А то кэ-эк дам! – засмеялся он.
Вовсе он не злой был, этот парень, и вовсе не собирался он бить ни Вовку, ни меня, просто грозился. Теперь вот сам же над собой смеялся.
– Кэ-эк дам! – передразнил я его.
Мы посмеялись.
– Ты тоже, – попросил я, – про графиню – того, не говори.
– А жаль, – сказал он. – Бабушка бы посмеялась.
– Ну, если так.
– Она не узнает, что это ты. Скажу, мол, ребята в школе. И все.
Теперь-то, много лет спустя, я думаю, что Артур тоже был малышом и, хоть казался он мне тогда старше своих лет, рассудительным и серьезным, его желание рассмешить бабушку было совершенно детским и нелогичным. Про пальто он не хотел напоминать ей, а вот о том, что ее прозвали графиней, – пожалуйста. Но ведь и мысль-то о том, что, может быть, она графиня, появилась не просто так, а из-за ее необыкновенного наряда.
Да, мы были детьми, а детям так свойственно ошибаться, не зная, что последует за шуткой…
– Ты, наверное, начитался всякого, а? – спросил я Артура. – Бабушка любую книгу даст?
– Кстати, – сказал он, что-то вспомнив, – ты не читал такой роман? Называется «Янки при дворе короля Артура».
Сперва я опешил. Как со мной разговаривают, будто со взрослым! Я взял самую первую книгу, «Что я видел», а меня спрашивают про настоящий роман.
Но я ловко вывернулся.
– Ха-ха, – воскликнул я, – так ты, Артур, еще и король?
Он довольно смеялся, а я подбавил дров в огонь:
– Не какой-то там граф! Король!
Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку и маму своим сообщением. Особенно ликовала мама. Бабушка просто охала и ахала на разные лады, а мама – я ее такой никогда не видел за всю войну – от восторга места себе не находила. Расхаживала по комнате, разводила руками, наигрывала губами какие-то знакомые мелодии и при этом рассказывала, как давно, в молодости, когда она училась в ФЗО, на каникулы их повезли в Ленинград – чудесный, волшебный город – и там повели в театр, на балет, это была сказка «Щелкунчик» – какие изумительные костюмы, – а музыку исполнял огромный оркестр, наверное, человек сто одних музыкантов, а что за чудо занавес – малиновый, с золотыми узорами, да и сам театр – мраморные колонны, пол, по которому страшно ходить, потому что он похож на стеклянный и в него можно глядеться, как в зеркало, даже лестничные барьеры покрыты красным плюшем – этого не забудешь вовек, и все-таки главное – артисты, балерины в таких вот юбочках, – мама показывала, какие именно юбочки, – из газовой, прозрачной ткани, у них, этих юбочек, даже специальное название есть, пачки, ну и, конечно, танцоры, в облегающих тело трико, но они маме не показались, потому что все больше стояли в тени и выскакивали оттуда, когда надо было поднять балерину и покружить ее.
– Как, – удивлялся я, – прямо в воздухе?
– Конечно! – радостно смеялась мама. – Прямо в воздухе.
И еще выяснилось, что балерины танцуют только на пальчиках, редко стоят на всей ступне, да и то очень изящно, вовсе не так, как делают это обычно люди, и мама показала, как стоят балерины: подтянулась, подобрала живот, даже, кажется, выше стала, и одну ступню вплотную приставила к другой, ровно посредине, так что получилась буква Т. Тут мама одну руку вскинула – я даже испугался: вышло ведь очень неудобно, маму чуть покачивало, потому что ноги приставлены вплотную, да и под углом – запросто можно упасть. А она еще, как нарочно, что-то такое тихонько замурлыкала, какую-то мелодию, и давай руками махать – одна вверх, другая вниз.
– Ладно, ладно! – рассмеялся я. – Расскажи лучше, как же они на пальцах танцуют.
– У них специальные такие тапочки, – успокоилась мама, – белые или розовые, представляешь?
– А не спадывают, тапочки-то? – вступила в разговор бабушка.
– Вот еще! – махнула рукой мама, оскорбившись за балерин.
– А ноги не ломают? – не унималась бабушка.
– Чего не знаю, того не знаю, – вздохнула мама, возвращаясь с довоенных небес обратно в нашу жизнь.
Она подошла к столу, разлила по тарелкам завариху, села, взялась за дюралевую ложку, зачерпнула ею еду и поднесла было ко рту, но вдруг кинула ложку обратно.
– Гады! Гады! Гады! – крикнула она отчаянно и заплакала.
Я даже вскочил: что еще случилось! С отцом?
Самое страшное, самое дикое, самое несправедливое, чего мы боялись всю войну, – от первого дня, как он ушел воевать, и до его возвращения, – мысли, что с отцом случилась беда.
Ах как я страшился этого! И разве только я? На что мы не шли, лишь бы избежать несчастья, каким только не верили приметам! Нельзя было проходить под раздвоенным столбом, переходить дорогу перед белой лошадью, а встретив подводу с гробом, требовалось трижды плюнуть через левое плечо и скрестить большой и указательный пальцы на обеих руках. Суеверие множилось и росло в малом народе, и никакие взрослые уговоры не помогали – ни материнские, ни учительские. Да, я думаю, матери и учительницы наши дорогие сами с любым суеверием сто раз смирялись и до конца жизни, несмотря, скажем, на партийность или образованность, согласились бы исполнить все правила примет да поверий, только хоть на шажок остановить беду, которая перла и перла из всех щелей – тифом, голодухой, похоронками.
Отойди, сгинь, несчастье! Изнемоги в лютости своей бескрайней! Дай людям вздохнуть, опамятоваться, вспомнить, что есть на белом свете цветы, книги и даже танцы в сказочно красивых, волшебных театрах!
Может, оттого люди говорили вроде потише у нас в тылу. Принижали голос, когда хотели сказать что-то твердое даже. Боялись испугать криком остальных. Потому что крик одно означал – беду.
А тут мама закричала. И я вскочил.
– Гады! – еще раз крикнула она. – Что теперь с театром-то? Вдруг разбомбили? Что же они творят, эти гады!
Грех, конечно, это был, но невинный, детский грех – ругнул я про себя маму. Подумаешь, сказал я про себя, театр. Кричит так, будто с отцом что случилось. Впрочем, а так ли велик был мой грех? Да и грех ли это – любить и жалеть отца больше, чем даже целый драгоценный театр?
Став взрослым, вроде бы легко разуметь, что театр нельзя ставить напротив отца, что и живой человек, и золотой дворец неповторимы, но одинаковая ли эта неповторимость – кто скажет… Нет, нет, только кажется, будто, став взрослым, легче жить и разбираться легче в разных сложных делах. Детство владеет клинком прямоты и справедливой однозначностью. Нет, я не пожалел театр, а испугался за отца, ругнул маму и облегченно сел на место.
– Фу, как ты меня напугала, – согласилась со мной бабушка, обращаясь к маме.
Она ничего не ответила. Ела завариху, вовсе не замечая еды, наверное, ушла обратно в свой чудесный театр, пусть, если ей так там нравится. Она устала, моя мама, она развеселилась первый раз за всю войну, пусть побудет еще немного в своей памяти, в золоченом дворце, где показывают балет. Ей недолго радоваться, минута, и она вернется назад.
Мама встряхнулась, возвратилась из воспоминаний и сказала, глядя на меня:
– Пойдем в библиотеку вместе. Хочу увидеть замечательную артистку.
И прибавила, помолчав:
– Может, это она танцевала тогда, давным-давно?
Я читал свою толстую книгу очень долго – месяц или полтора.
Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. Иногда казалось, что война идет всегда, что отец целую вечность на фронте. Не верилось только одному – что это будет бесконечно. Надежда и ожидание – единственное, чем жили люди. Все, что происходило сейчас, казалось временным. Но затянувшаяся временность требовала хоть коротких прикосновений к постоянству. Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жизни, что это было воспоминание о постоянстве? Может, я хотел подольше задержаться там, на мирной и тихой Волге, представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою? Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? Не помню. Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь с книгой в руках поближе к печи и натянув – для уюта – старый и уже дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. Счастлив и просветлен.
Книга делала со мной чудо: она говорила со мной разными голосами детей и взрослых, я чувствовал, как подо мной покачивается палуба белоснежного парохода, видел всплески огромных рыб в тяжелых струях реки, слышал металлический грохот якорной цепи и команды капитана, хоть и не морского, речного, а все-таки с трубкой в зубах. Я ощущал прикосновения человеческих ладоней, чувствовал запахи дыма рыбацкого костра, который доносился с берега, слышал мерное чмоканье волны о дебаркадер и наслаждался сахаристым вкусом астраханского арбуза. Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, раскрывая безмерные дали и вознося в облачные небеса.