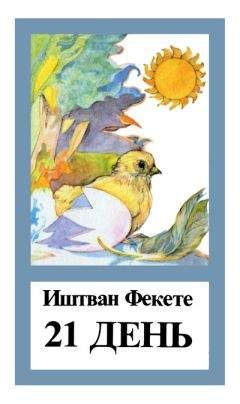Тут и работники зашумели, но мы чувствовали себя не в своей тарелке и поспешили убраться от мельницы подальше. Побрели на пастбище, напились воды у колодца, хотя пить нам вовсе не хотелось, послушали шелест старого тополя, полюбовались своим отражением в глубоком зеркале колодца, а затем по проселку поплелись к дому.
Обсаженная тополями дорога тянулась, молчаливая и пустая, от гнезд так и веяло заброшенностью, лишь изредка какая-нибудь одинокая пустельга удостаивала нас взглядом, но сорокопуты исчезли совсем, иволги давно уже пустились в перелет, и по грязной дороге серыми комочками земли безмолвно пробегали хохлатые жаворонки.
Облака вновь сгустились, и солнце прорывалось сквозь них к земле лишь на минуту-другую, но свет его рассеивался непрестанной игрой облаков.
Мы уныло шлепали по грязи домой, и я даже не стал заходить к Петеру.
На прощанье он спросил:
— Мы опять будем в школе сидеть рядом? — и покраснел.
До сих пор мне и в голову не приходило, что может быть иначе, но тут — сам не знаю, почему — черт меня дернул сказать:
— Ты же знаешь, что как нам велят, так мы и сядем…
— Да, конечно…
И он понурясь вошел в дом, а у меня весь день был горький привкус во рту. Трижды я порывался было побежать к нему и сказать, что, конечно же, я ни с кем другим и сидеть не стану, но дождь лил как из ведра, и я, не переставая терзаться, лег спать, и всю ночь мне снилось, что рядом сидит тот парень-батрак с гнусной рожей, мерзко хохочет и пинает меня по ногам…
К утру у меня уже не было мочи терпеть, и я чуть свет помчался к Петеру.
— Я договорился с отцом, — выпалил я, — мы опять сядем вместе. А если захотим, то и в гимназии тоже.
Глаза Петера блестели ярко-ярко, но тогда я еще не знал, что это не только от радости, но и от болезненного жара.
Избавившись от тяжкого груза, я бегом понесся домой и вымок до нитки.
Позднее дождь прекратился, зато поднялся ветер, и стало так холодно, что бабушка затопила печь.
— Заодно и бумаги лишние сжечь, вон их сколько накопилось, — сказала она, и я увидел, что она тем временем связывает очередную пачку писем.
«Ага, глядишь, и эти удастся прочесть!» — подумал я.
Комната наполнилась приятным теплом. Я обсох и снова взялся за учебники, которые бабушка тем временем успела обернуть.
— Если станешь бережно обращаться с ними, они у тебя и к концу года будут как новенькие.
Уж я-то знал, что «новенькими» к концу года им никак не бывать и, к сожалению, они утратят этот свой особый аромат.
В тепле я как-то размяк и, пожалуй, даже уснул, а потом, продрав глаза, долго таращился на промокший сад дядюшки Цомпо, на вяло роящихся пчел, на потемневший от влаги забор, и это зрелище вполне естественно навело меня на мысль о сухом, теплом чердаке.
Бабушка, занятая своими делами, не обращала на меня внимания.
— Вот так-то оно лучше, — шептала она. — Теперь только бы шифоньер в порядок привести… — но эти слова относились не ко мне; бабушка вела свой обычный разговор с самой собою.
«Отца дома нет», — подумал я, а бабушка в это время как раз начала шепотом вздыхать: «Ах, Луйзи, Луйзи…» И тут я тихонько прошмыгнул на кухню, а оттуда — к чердаку; его прогретой тишины и покоя мне недоставало так же, как и моих друзей.
Когда я проходил через кухню, тетушка Кати посмотрела на меня, и я — сам не знаю, почему — покраснел; мне казалось, она видит меня насквозь.
— Когда поднимешься туда, сунь руку поглубже в зерно, — шепотом велела она мне. — Если груда не остыла, то назавтра быть вёдру… Смотри не забудь!
Я лишь кивнул головой.
«Хорошо, если бы предсказание и вправду сбылось», — подумал я уже на чердаке, засунув руку по локоть в груду пшеницы: внутри зерно хранило ровное, сухое тепло.
Затем я вернулся к своим друзьям, но прежде чем сесть в кресло, на ходу погладил рукой бронзовый крючок, а он отозвался мне легким, как дыхание, звоном:
— Идет дождик?
— Да, — кивнул я и опустился в старое кресло, которое едва слышно скрипнуло подо мной.
— Я уж про дождь и не спрашиваю — всеми ножками, даже той, которой давно нет, чувствую сырость.
— Гадость какая! — шепнуло сорочье перо на шляпе дяди Шини. — Я настолько отяжелело от влаги, что того и гляди выпаду из-под шляпной ленты, а ведь мне этого не пережить…
Тут я встал и засунул перышко поглубже под ленту.
— Как ты добр, мальчик, — благодарно колыхнулось перо.
— Спасибо, мальчик, — шепнула и шляпа. — Рады будем видеть тебя и на будущий год, знай, что мы полюбили тебя…
«Почему же на будущий год? — подумал я. — Можно ведь приходить сюда и зимой. Правда, зимой на чердаке холод…»
— Холод и безмолвие, — вздохнул дымоход, и настала такая тишина, что я невольно содрогнулся. И в этой тишине было слышно, как кто-то тихонько открывает дверь чердачного хода.
Мне сделалось не по себе. Отца дома нет, кроме него на чердак никто не ходит, а тем более крадучись…
Кто-то тихой, шаркающей походкой поднимался наверх, и у меня осталось времени ровно столько, чтобы юркнуть за дымоход, где было темно и чуть пахло сажей.
Шаги приближались, и взгляд мой напрягся в испуганном ожидании.
— Бабушка! — мысленно вскрикнул я.
Поднявшись на последнюю ступеньку, она остановилась передохнуть, поправила очки, подслеповато щурясь и примериваясь к незнакомым расстояниям и предметам, а затем направилась к шкатулке. В руках у нее была пачка писем.
«Сейчас она обнаружит, что шкатулка открыта!» — подумал я, и от страха ноги у меня подкосились. Но бабушка этого не обнаружила. Ключ повернулся в замке, замок открылся, и бабушка подняла крышку шкатулки. Она вздохнула и склонилась над шкатулкой с такой печальной и неизбывной нежностью, будто взирала в глубь людских сердец. Руки ее перебирали листки бумаги ласковым, заботливым движением, а затем она бережно опустила крышку. Замок тихонько щелкнул, но бабушка какое-то время постояла, не сводя глаз с закрытой шкатулки, после чего повернулась и, сутулясь, побрела вниз.
После ее ухода осталась плотная напряженная тишина.
Прислонившись к дымоходу, я обождал, пока внизу хлопнула дверь, затем с тяжелым сердцем подошел к шкатулке.
Шкатулка была заперта!
Тишина вокруг меня сделалась прохладной, лишь дождь барабанил по черепичной крыше, и этот звук слегка напоминал удары мягких комьев земли по крышке гроба.
Я еще раз прикоснулся к замку: он был холоден и поистине замкнут.
Оглядевшись по сторонам, я с отчаянием опустился в прабабушкино кресло.
Тишина, тишина и мерный, чуть слышный, холодный стук дождя.
Бронзовый крючок неподвижно свисал с балки, гусарские штаны, заношенные и пыльные, лишены всяческой живости и лоска, сапоги покрылись плесенью от дождевой сырости, посеревший от времени шелк на нижней юбке расползался, а мышонок шнырял по полу, будто и вовсе меня не замечая.
Сердце мое тоскливо сжалось.
— Что все это значит? — мучительно думал я, и никто не отзывался на мои думы. Лишь через какое-то время старое кресло сжалилось надо мной.
— Шкатулка заперта, наш мальчик… Осень наступила, приближается пора туманов и тишины, великой и долгой. И в такую пору мы предпочитаем остаться одни… погрузиться в сон и воспоминания, думать о былом и о той своей жизни, которая не имеет ничего общего с внешним миром.
— Аминь, — прошептала веревка, когда-то давно препоясывавшая монашеское облачение, а затем все стихло — ни движения, ни шороха.
Когда я проснулся на следующий день, за окном ослепительно ярко светило солнце, и на душе было так же светло и радостно, да и не удивительно: ведь сегодня мне предстояло торжественно «перейти» в третий класс. На мне новые сандалии и белые носки, но, к сожалению, всего этого великолепия не видно, потому что мы стоим за партой. Помещение все лето не проветривалось, и воздух тут спертый, но в стенах класса гулко раскатываются слова гимна.
Учитель стоит за кафедрой и поет вместе с нами. Затем после короткой паузы делает нам знак садиться.
Петер сидит рядом, и это действует на меня успокаивающе. В одном помещении собраны третий, четвертый, пятый и шестой классы; девочки сидят слева, мальчики — справа. Всего нас человек сто.
Затхлый воздух класса постепенно начинает пропитываться людским запахом.
В классе стоит гул, но постепенно он стихает.
— Дети мои, здесь, в школе, вы многому можете научиться, но это лишь основа знаний. Будьте честными и порядочными, а остальному вас научит жизнь — каждого в особицу… когда не будет рядом с вами ни учителя, ни сотоварищей-учеников…
Учитель произносит свое напутствие нам, а я в тот момент думаю о том, что я уже немало знаю о жизни, ведь меня многому научили и старые письма, и тетушка Кати, и мои грезы наяву, и чердачные друзья-приятели. А приобрел я эти знания — в одиночку, сам по себе.