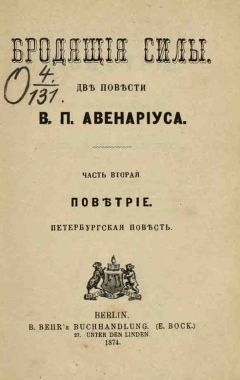Не очень-то, казалось, разборчивый в потехах князь Адам с усмешкой крикнул ему вслед:
— Ай да Ивашко! Живее, братец, не то в горб тебе еще накладет!
При имени Ивашки, Михайло вспомнил вчерашний рассказ еврея о выписанном Вишневецким из Москвы русском карлике. Этот шут-озорник, стало быть, и был он самый.
Но Михайле было уже не до карликов: гораздо более его занимал теперь сам князь, сбросивший между тем на руки одного из слуг свой капеняк (дорожный плащ). Узнать в Вишневецком крупного магната можно было с первого взгляда по его дорогой собольей шапке, с пером цапли и огромным изумрудным аграфом; по его гранатовому кунтушу с малиновыми отворотами, богато расшитому золотыми цветами и яркими шелками; по его золотому поясу и сабле, осыпанной по рукоятке и ножнам алмазами. И в его красивом лице, и во всей сановитой, довольно дородной фигуре было что-то прирожденно-благородное. Хотя ему было за 40 лет, в лице его, сохранившем замечательную свежесть, не было почти морщин; усы его были лихо закручены, и с полных, как две вишни, губ его не сходила благосклонная улыбка.
Тут внимание Михайлы было развлечено развернувшейся внизу на дворе пестрой, оживленной картиной. Княжеские придворные, «маршалки» и «по-коевцы» — крупная и мелкая шляхта, обязанная сопровождать светлейшего во всех его поездках, — повылезали, повыскакивали из остановившихся за околицей повозок, и вся площадка перед корчмою закишела празднично разряженным людом; воздух огласился шумным польским говором и смехом.
По сторонам крыльца, как уже раньше упомянуто, росли два могучие дуба, распространявшие теперь, в полдень, широкую, прохладную тень. По данному князем знаку многочисленные холопья бросились наперерыв в дом, нанесли оттуда разной столовой мебели, и в несколько минут в тени дубов был накрыт и уставлен чем следует длиннейший обеденный стол. Местничество в старой Польше процветало едва ли не более еще, чем на старой Руси; поэтому, при выборе сидений за столом, каждый шляхтич, оспаривавший у других придворных старшинство в роде, норовил заручиться местом повыше, поближе к князю-воеводе и царевичу. Только благодаря особенной опытности и сноровке княжеского маршала, весь придворный штат, хотя и не без пререканий, был чинно расставлен вокруг стола. Никто еще, однако, не садился в ожидании княгини воеводиной и царевича.
Но вот и княгиня с детьми спустилась с крыльца, а за ними и царевич. Все заняли свои места.
Внимание Михайлы сосредоточилось исключительно на царевиче, которого он имел полный досуг разглядеть, так как тот, сев за стол, был обращен к нему лицом.
Это был молодой человек лет двадцати двух — двадцати трех, ростом ниже даже среднего, но сложения очень плотного, коренастого. Черты его безбородого, смуглого лица отнюдь не могли похвалиться правильностью и вообще красотою, а на лбу и около правого глаза у него было вдобавок по бородавке. Когда он, чтобы освежить голову, снял шапку, то обнаружил под нею коротко остриженные, жесткие как щетина, черного цвета волосы. За всем тем ему нельзя было отказать в представительности и даже в привлекательности: в открытом, смелом, почти дерзком Взгляде его проницательных серых глаз светилось столько ума, на губах его змеилась по временам такая тонкая усмешка, в осанке его было столько самонадеянной гордости, во всех телодвижениях столько изящной ловкости, — прямой царедворец, если не царский сын! Ко всему этому он был одет в живописный, богатый польский костюм: в голубой бархатный кунтуш над стального цвета атласным жупаном, разукрашенным золотыми узорами; набекрень шапка соболья с бархатным верхом и султаном из стеклянных волос, за златотканым поясом желтые лосиные печатки; сбоку — украшенная драгоценными камнями сабля.
Обед между тем шел своим чередом. Княжеские повара оказались большими мастерами: хотя времени у них было очень немного, хотя дело было дорожное, угощенье вышло на славу. Загодя, видно, в Дубне еще все изготовили, а здесь только допекли, дожарили. Начало трапезе положил, разумеется, традиционный еще в ту пору у местных вельмож со времен князя Владимира Киевского, жареный павлин во всей роскоши своих разноцветных перьев; затем следовали уже чисто польские блюда: зразы, бигос, мники. Парубки с умывальными чашами и кувшинами с водой в руках, с ручниками через плечо, стояли тут же, чтобы столующие могли между отдельными блюдами тотчас умыть себе жирные руки (вилки в ту пору не были еще в общем употреблении). Сновавшие вокруг стола слуги усердно подливали заморского виноградного вина, отечественной браги и домашнего меду в опорожненные чаши и кубки. Несмотря на присутствие княгини, беседа за столом текла все свободнее и шумнее. Шнырявшие туда да сюда карлики со своей стороны взапуски смешили обедавших; сама княгиня удостаивала их иногда снисходительной, кисло-сладкой улыбкой, и только когда баловень-сынок ее, сидевший рядом с нею, разражался чересчур уже звонким смехом, она морщилась, зажимала себе в его сторону ухо и выговаривала стоявшей за стулом княжича нянюшке: зачем-де та не наблюдает за ним толком.
Тут подали новое блюдо, и от одного конца стола до другого пронесся возглас удивления и восхищения. Сам Михайло в окошке светелки не знал, верить ли глазам: вся турица его была воедино опять сложена, да так, в мохнатой шкуре, с приставленной рогатой головой, и подана на стол! Самые же рога у нее были вызолочены и цветочными венками кругом обвиты.
Но и на этом дело еще не стало: придворный кравчий, рушивший столующим жаркое, умелым взмахом ножа распорол живот турицы — и посыпалась оттуда в подставленные блюда небывалая начинка: дичь всякая, куры, зайцы…
Между тем царевич подозвал к себе Рахиль и о чем-то ее спрашивал; она же, словно обрадовавшись, что-то ему рассказывала и кивала вверх, на светелку… Этого недоставало!
Михайло быстро откинулся назад от окошка. Но вот и лесенка к светелке заскрипела под чьими-то шагами. Ну, так и есть!
В дверях показалась Рахиль. Красивое лицо ее пылало огнем, голос ее обрывался от волнения:
— Царевич зовет тебя, Михайло…
— И зачем ты, Рахиль, говорила ему обо мне?.. — укорил ее дикарь.
— Иди, иди! Господь благослови тебя: счастье твое, может, ждет тебя…
Ему ничего не оставалось, как последовать зову. Придерживая рукою сердце, точно боясь, чтобы оно не выскочило у него из груди, он сошел в нижний этаж, а оттуда на двор.
Глава седьмая
ГАЙДУК ЦАРЕВИЧА
Взоры всего избранного, блестящего «панства», сидевшего за столом, обратились на молодого поле-щука.
— Ну, добрый молодец, хозяйская дочка рассказала нам о том, как ты расправился вон с этим зверем, — милостиво заговорил по-русски царевич, указывая на возвышавшуюся посреди стола златорогую, увенчанную цветами, могучую турицу. — В бою один на один с человеком ты, я чай, тоже управишься, не покажешь тылу?
Михайло самонадеянно вскинул голову.
— Как ты сам, царевич, полагаю, тылу ворогу не кажешь, так и я постою за себя!
— За смелое твое слово, молодец, ты люб мне. Такие люди мне нужны. Чем тебе без пути болтаться, взял бы я тебя в свою дружину. Да говоришь ли ты по-здешнему?
— По-хохлацки? Говорю.
— Прислушался? Но панского, польского языка, конечно, еще не знаешь?
— Знаю…
— Это откуда? Да кто же ты, молодец? Из каких?
Молодой богатырь, как ни был приготовлен к такому вопросу, замялся, смутился. Искоса хмурясь на окружающих, не сводивших с него глаз, он, запинаясь, уклонился от прямого ответа.
— Я… не пропащий человек… дурным чем себя доселе не опорочил…
— Но имя, звание твое?
— Имя мне Михайло…
— Михайло Иваныч Топтыгин? — подхватил тут подскочивший к нему шут Ивашко. — Здорово, Мишенька! Что женушка-медведиха, Матрена Ивановна? Что малые детки?
Приветствие свое карлик сопровождал таким забавным кривляньем, что князь Адам, а за ним и все его придворные разразились одобрительным смехом. Маленький же княжич так и заливался, тыкая пальчиком на звериный кожух дикаря.
— Мама, медведь! Медведь!
Один только царевич, прерванный в своем допросе, сердито усмехнулся, и заметившая это княгиня наклонилась к сыну и стала тихонько ему выговаривать. Между тем, лавры Ивашки не давали уже покою товарищу его Палашке. Тому надо было во что бы то ни стало также отличиться.
— А Палашко покатается на медведе! — объявил он, молодецки потрясая головою в дурацком колпаке, отчего бубенчики на колпаке задорно зазвенели; и не успел Михайло оглянуться, как проворный шут, хватаясь за его волосатую одежду, вскарабкался к нему кошкою на плечи. — Ну, пошел! Вперед! Цоб-цобе!
Михайло был еще очень молод; услышав вокруг себя новый взрыв хохота, он понял одно: что сделался общим посмешищем, и в присутствии кого же? Самого царевича! Кровь ударила ему в голову, и он не мог уже совладать с собою. Стащив карлика разом за ноги с своих плеч, он размахнулся им по воздуху, как кистенем.