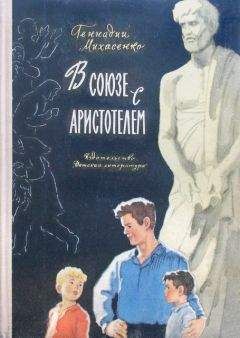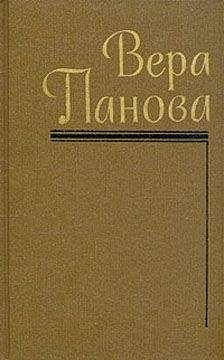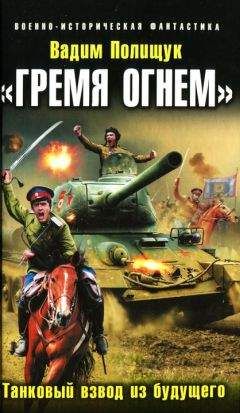— А что, это было бы неплохое мероприятие — второе пришествие Христа, — проговорил Аркадий. — Повозили бы мы его по стране, как принца показали бы кое-что да и агитнули бы в пользу коммунизма. И ручаюсь, отрекся бы Иисус от своего сана, скинул бы терновый венец и обозвал бы своих поклонников дураками… Во всяком случае, к неописуемому счастью православных, на земле учредилась бы еще одна пасха — наслаждайся, не хочу!
— Да, это было бы законно, — поддержал Юрка, вспомнив нынешнюю апрельскую пасху, когда он, Валерка и еще несколько ребятишек, в том числе и Поршенникова, возбужденно ходили по домам, гаркали «Христос воскрес» и получали пасхальные дары: монеты, разноцветные яйца, ватрушки, кедровые шишки, леденцы и даже головки лука и чеснока. — Весело было бы! Дважды бы славили!
— Во-во! Мать сектанты взялись обрабатывать, брат сам готов богу на рога броситься. Эх, народ!
— Ну, уж хватит вам измываться. Ты вот скажи лучше, анжинер, кончили гэсу-то или опять весной мыкаться будем?
— Будем. Еще год.
— Пожалели бы уж людей. Мы-то еще ничего, а кругом- то смотреть страшно.
В половодье дома, стоявшие в низине, заливались по окна, так что жильцы переселялись на чердаки и крыши вместе со скотиной. Изба же Гайворонских стояла на некотором возвышении, так что вода останавливалась перед самыми воротами. И главное беспокойство семьи состояло в том, чтобы загодя перетащить картошку из подполья в сени — грунт был песчаным и подполье всегда затапливалось.
— Еще год, — повторил Аркадий. — Я снова поеду туда и, клянусь, дострою, хотя бы ради нашей картошки.
В сенях звякнули когти и монтерский пояс, брошенные в угол. Это пришел на обед глава семьи — Петр Иванович. Он работал электриком на одном из ближних заводов Нового города, был худощав и, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, все еще ловко взбирался на столбы — чаще по просьбе односельчан, чем по службе.
— У-у! — воскликнул Петр Иванович. — Все дома. Наконец-то! Здравствуй, Аркаша… Люблю, когда все дома, ей-богу. Никакого праздника не надо, лишь бы были все дома, да здоровые, да веселые… Эх, жаль, что через полчаса идти, а то бы мы сейчас выпили!
— Я тоже, пап, ухожу, — сказал Аркадий.
— Куда? — спросил Юрка.
— В институт. Да кое-кого из друзей повидать.
— Ну ничего, вечерком чокнемся. Ага, мать?.. Выпьем и снова нальем!
— Вообще-то на меня не очень рассчитывайте, — проговорил Аркадий.
— Понятно. Дело молодое, но постарайся пораньше… Ну что ж, рассказывай, как там, что там, почему там, сколько турбин уже пущено, когда перестанете Перевалку заливать?
Юрка не любил подобные расспросы отца: как, что и почему. Они были до того нудными и дотошными, что, будь это кто-нибудь другой, мальчишка решил бы, что человека все, о чем он спрашивает, не интересует вовсе, а делает он это назло. Но Петр Иванович, сколько Юрка помнит его, всегда был любителем поговорить именно так, подробно. И мальчишке оставалось только удивляться этой отцовской склонности да вовремя спасать друзей от всяческих расспросов.
Аркадий и Петр Иванович ушли вместе.
Юрка вздохнул. Мать и отец наговорились с Аркадием, а ему и слова не дали вымолвить. А между тем именно его, Юркин, разговор важнее и интереснее всех этих Армагеддонов. Он рассказал бы о портальном кране, сделанном Валеркой, о выставке, о том, что они всем классом наметили экскурсию на плотину, о том, что скоро они станут пионерами, о том, что просила передать Галина Владимировна, — о болотце… Действительно, гора новостей. Аркадий, значит, предчувствовал это и сам, очевидно, не против был потолковать. Так ведь не дали со своим Иисусом Христом.
Мальчишка решил дождаться брата во что бы то ни стало, пусть хоть в два часа ночи придет.
Юрка вернулся с улицы уже затемно и засел в комнате Аркадия читать «Руслана и Людмилу».
Петр Иванович купил водки, ждал-ждал сына, потом выпил одну стопку, вторую, затем, когда прогудела очередная электричка и Аркадий не появился, налил сразу стакан, выпил, наелся, пошелестел минут пять газетой и уснул на диване.
Аркадий приехал в двенадцатом часу. Родители спали. Свет горел только в его «келье», как он называл свою комнатушку. Юрка мужественно боролся со сном.
— Ну как? — спросил Аркадий.
— Ничего.
— Ну и прекрасно… Мне бы чайку.
И пока он в кухонной полутьме добывал себе чай, Юрка поспешно соображал, с чего начать разговор.
— Зря он простил Фарлафа, — сказал он, когда брат вошел с дымящимся стаканом. — Я бы ему голову отрубил.
— Фарлафу?
— Ну да.
— На правах читателя ты можешь это сделать… Хочешь со мной чай пить?
— Нет.
— А спать тебе не пора?
— Я тебя ждал.
— А-а, Тогда извини.
Юрка поворошил некоторое время страницы книги, потом вдруг сразу сказал, что у них в классе открыли выставку. И беседа началась.
Вот с братом Юрка любил поговорить. По тому, как он слушал, как и что отвечал, чувствовал Юрка молодую, почти мальчишескую душу брата, и это его так радовало, что он готов был делиться с Аркадием не только тем, что действительно требовало чьего-то участия, а и пустяками. Василиса Андреевна, та, слушая Юркины излияния и обычно не прекращая своих хлопот по хозяйству, все время поддакивала, соглашалась, затем принималась переспрашивать и наконец заявляла: «Ох, сыночек, ничегошеньки я не поняла из твоей болтовни». Мальчишка не раз зарекался не делиться с матерью никакими мыслями, но забывал об этом.
Когда Юрка рассказал о болотце, Аркадий рассмеялся.
— Как же это ты запомнил?
— Я никак не запомнил. Само запомнилось.
— Значит, она посоветовала мне высказываться осторожней. М-да-а, — протянул брат насмешливо. — Это хорошо — видеть все в розовом свете, это радостно и спокойно. Ну, а если свет не розовый? — спросил он вдруг, пристально взглянув Юрке в глаза. — Если свет не розовый, тогда что?
Аркадий порывисто допил чай и поднялся.
— У нас ведь не инквизиция. Нужно называть белое белым, а черное черным.
Юрка понял, что брат сейчас будет говорить много и не совсем понятно, не ему, Юрке, а вообще — человечеству. Аркадий в самом деле принялся шагать взад-вперед.
— Странно все-таки некоторые люди смотрят на обычные явления, — заговорил он, сталкивая между собой большие кулаки. — Один мой сокурсник, побывав как-то у нас, сказал мне: «Послушай, Гайворонский, ты ведь живешь в тисках цивилизации!» Я ответил, что да, мы действительно живем в тисках: там бугор и там бугор; но это тиски не цивилизации, а новостроек. «Ты замечаешь?» — спросил я его. Он рассмеялся и назвал меня оптимистом.
— Чем?
— Оптимистом. Человек, который не под ноги смотрит, а вдаль. Вдаль, но и под ногами все видит. Понял?.. Должен понять — нехитрая философия. Мир наш перестраивается, перекраивается. И моментально везде он не может обновиться, сменить шкуру. Это Люксембург можно сразу перевернуть вверх ногами, а матушку Русь поди обнови одним махом — надорвешься. Но обновление ширится. Кое-где оно идет медленно, но за счет того, что где-то идет быстрее. И наша Перевалка перелицовывается, однако туговато, и нам нужно помогать ей по-хозяйски, а не говорить, что все отлично, не пугаться этого слова — «болотце»… Есть у нас и школа, и клуб, и больница — многое есть, но ведь мы еще пасхи справляем. Вспомни, как ты сам, задравши хвост, бегал по домам Христа славил, даже соревновались, кто больше наславит… Ребятишек бьем! Водку дуем до одури! И не пускаем сами себя, свои мысли и интересы дальше собственных огородов! Вот что такое болото. Все, что плохо, — болото. И осушать его надо, а не ходить по воображаемому мостику. Вот так, братец, будущий пионер!.. Кстати, наше настоящее болотце, с камышами и лягушками, — это, по-моему, очень хорошая штука… Ты что-нибудь понял?
— Понял, — ответил Юрка, действительно поняв, вернее, почувствовав, что в жизни есть что-то неладное, тревожное.
— Тогда будет, наговорились. Тебе, который привык ко всему окружающему, трудно вдруг различить, что тут так, а что не так. Но ты различишь. Вот столкнешься покрепче и различишь… Значит, зря, говоришь, Руслан пощадил Фарлафа? Я тоже думаю — зря. Голову ему, пожалуй, следовало бы снести… Ну что же, спать?
— Спать.
Так вот что подразумевал Аркадий под словом болотце, думал Юрка, забившись под одеяло. Не протухшую воду и не камыш с лягушками, а человеческую жизнь. Все, что плохо, — болото. Как, однако, странно. Пасху справляют. Да, пасху справляют почти все, и они, ребятишки. Это очень необычно и забавно. Соревнований, правда, никаких не было, но хвастали друг перед другом пасхальными дарами. Самый прыткий «христосник», конечно, Фомка Лукин. Он даже с какой-то сумкой ходил и, обойдя все дома, отправлялся во второй заход. Юрка с Валеркой на это не решались — стыдно, да и нравилась им больше беготня, шум, сутолока, а не всякие плюшки-ватрушки. Что тут плохого? Что болотного в пасхе? Мальчишка этого не мог понять… Другое дело, когда водку пьют и бьют ребятишек — вот это противно и страшновато. Вон дядя Вася иногда Валерку лупит, а зачем? Или Поршенникова — свою Катьку. Какой толк? Только больно и только зло берет… Ну и, конечно, в бога верить глупо. Вон мать каждый раз перед сном что-то нашептывает, молится. К чему? Хорошо, что Аркадий в прошлом году икону снял и спрятал ее где-то на чердаке, а то висит в углу — прямо жутко… Юрка лег на бок. Сквозь дверные портьеры из комнаты брата сочился свет — еще читает. Как он додумался до таких мыслей? Он, Юрка, даже в готовом не может разобраться, не то чтобы откуда-то из ничего выудить. Болотце… Может, и сейчас, если выйти за ворота, можно услышать, как лягушки квакают… Собаки лают… Луна…