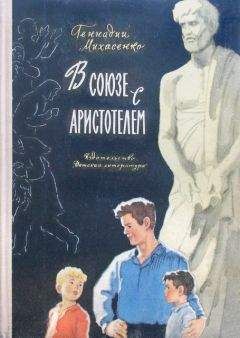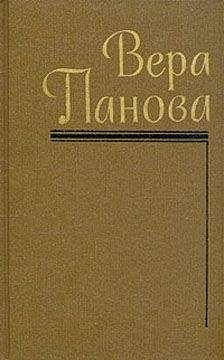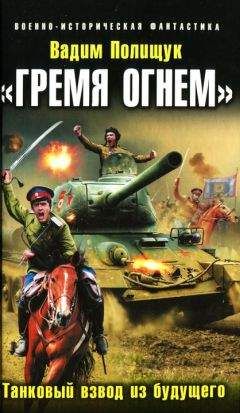Глава пятая
ЛЕТАЮЩАЯ ГАЛОША
Погода начала портиться. Небо заволокло сплошными серыми облаками, которые вскоре потемнели. Пошел дождь. Переваловская почва превратилась в кисель, местами непролазный.
Теперь Юрка с Валеркой ходили в школу не но своей улице, которая особенно раскисла, а огородами перебирались на соседнюю, куда в половодье вода не докатывалась и где поэтому не было ила. Валерка носил галоши с ботинками. Юрка надевал сапоги.
Галина Владимировна сделала перекличку и озабоченно проговорила:
— Опять Поршенниковой нету. То хоть по субботам, а тут третий день подряд. Что же с ней?
— Она на уколы ходила.
— Я знаю, Валера… Никто ее, ребята, не видел в эти дни?
Нет, никто не видел.
— Да-а… Нужно узнать, что с Катей.
— Может, из-за грязи, — подсказал Фомка Лукин.
— Может, но едва ли. Она у нас слабее всех, а вы, я вижу, особенно мальчики, относитесь к ней холодновато, а то и просто грубо. Ей живется труднее, чем многим из вас, — у нее нет отца, а мать много работает. Так что давайте внимательнее относиться друг к другу… Нужно сходить к Поршенниковым. Лучше тому, кто ближе.
— Я живу близко, — сказал Валерка, сказал как-то вдруг, сидя, потом смутился, встал. — Я и Гайворонский. Мы близко живем.
— Вот я прошу: узнайте, что с ней.
Валерка закивал и медленно, скользя по спинке, опустился на сиденье.
— Только обязательно. — Галина Владимировна захлопнула журнал, велела раскрыть тетради и пошла между партами, просматривая домашнее задание.
Когда учительница миновала Юрку, он дернул Валерку за плечо:
— Кто тебя просил выскакивать?
— А чего?
— Ничего. Нужна мне эта Паршивенькая. Она в школу не ходит, а я ходи к ней, узнавай.
— А может, она болеет? Может, уколы не помогли?
— «Может-может»! А может, здоровая?
— Ну и не ворчи. Разворчался. Не хочешь — не надо. Я один схожу.
— Ну и иди.
— Ну и пойду.
— В чем дело, Теренин? — спросила Галина Владимировна. — Чего это вы расшумелись?
— Спросите у Гайворонского, — ответил Валерка, чуть приподнявшись, с опущенной головой.
— Юра, о чем спор?
— Спросите у Теренина.
— Ну вот что, друзья, все вопросы решите на перемене, а сейчас урок.
Юрка разозлился на Валерку, Валерка — на Юрку. Но Юркина злость была сильнее — она даже мешала ему понимать то, что объясняла учительница. Ему вдруг захотелось чем-нибудь досадить Валерке — вот как он разозлился. Юрка вспомнил, что сегодня Валерка забыл дома мешочек для галош и, чтобы они не потерялись в гардеробе, принес их в класс. Юрка тут же решил стащить одну галошу — пусть поищет.
Уловив момент, когда Галина Владимировна отвернулась к доске, он тихонько нырнул под парту, дотянулся до Валеркиной галоши и осторожно переложил ее к себе, потом уселся как ни в чем не бывало, погрозив пальцем Наташе — девочке, сидевшей рядом с ним, которая открыла было рот, чтобы, наверное, спросить, что он делает. Юрке стало до того радостно, что он заулыбался. Он то и дело приоткрывал слегка крышку парты, чтобы посмотреть, тут ли галоша.
Неожиданно явилось желание вытворить какой-нибудь номер с этой галошей — подбросить, например, ее вверх и снова поймать. Желание было настолько сильно, что Юрка не сдержался. Он нагнулся, схватил галошу и, убедившись, что учительница стоит спиной к классу, размахнулся. Бросать было неудобно, задник зацепился за палец, и, вместо того чтоб взлететь вверх, как хотел Юрка, галоша стремительно описала дугу и шлепнулась на заднюю парту, к Фомке Лукину. Она ударила чернильницу, наполненную до краев, стукнулась о стену и отскочила под парту. Чернильница куда-то улетела, веером рассыпав фиолетовые брызги по Фомкиной тетрадке и окропив такими же брызгами лицо Фомки.
Ребята, обернувшись на неожиданный шум и увидев расписанного Фомку, от смеха легли на парты. Лукин сперва насильно улыбнулся, потом скривил физиономию и заплакал.
Галина Владимировна застучала по столу согнутым пальцем:
— А ну-ка тихо!.. Тихо!.. В чем дело, Лукин?
Фомка так разревелся, что не мог ответить.
— Ему галошей в чернильницу закатили, всю тетрадку заляпали и на лицо вон… Да не три ты, дурак, все размажешь!
— Лукин, перестань плакать. — Галина Владимировна подошла к нему. — Иди умойся, принеси тряпку и вытри парту.
— Никуда я не пойду и вытирать не буду, — из-под локтя, зло, со всхлипыванием ответил Фомка. — Пусть вытирает кто бросил, а я не буду. Вот!
— Безобразие! — сказала Галина Владимировна. — Кто это бросил? (Молчание, испуг и любопытство.) Я спрашиваю, кто это сделал?.. Не хватает смелости сознаться?.. Лукин, достань галошу.
Фомка вынул ее из-под парты.
— Что это такое? Ну-ка, отнеси к доске!
Как Лукин ни был разобижен, этот неожиданно строгий тон учительницы пронял его. Он не встал, а сполз с парты, поднял галошу и направился к доске, бодливо склонив голову и спрятав лицо в согнутой руке. Положив галошу рядом с мелом, Фомка быстро вернулся и плюхнулся на место.
Галина Владимировна прошла к столу.
— Чья эта галоша?
Молчание.
— Кто пришел в галошах — проверьте.
Валерка нагнулся и, к великому своему удивлению, увидел лишь одну галошу. Ничего не понимая, он совсем забрался под парту, все оглядел и, пораженный, вылез обратно.
— У меня нет галоши, Галина Владимировна. Это, наверное, моя.
Учительница, круто выгнув левую бровь, как всегда делала в порыве недовольства, глянула на Валерку и со сдержанным раздражением спросила:
— Чего же ты, Теренин, молчал?
— Я не знал, что это моя галоша. Я думал, что это чужая галоша, а тут оказалось, что это моя…
— Разве не ты ее бросил?
— Я?.. Конечно, не я! Это же моя галоша, зачем же я буду бросать свою галошу?
— А кто же ее бросил? — допытывалась Галина Владимировна.
— Не знаю! — Валерка от волнения даже охрип.
— Садись, Теренин… Гайворонский, встань!
Юрка встал. Галошу он кинул так моментально, что до сих пор вроде и не верил, что это он именно кинул. Он будто и раньше вот так сидел, и теперь вот так же сидит, и не доставал он будто ничего, и не бросал будто ничего. Но галоша лежала на желобе доски и явно требовала объяснения своему появлению там. Как много бы Юрка отдал, чтобы эта противная галоша исчезла оттуда и очутилась у Валерки под ногами и лежала бы там себе спокойно. Но… ничего не поделаешь. Юрка тут же решил отпираться, отпираться, несмотря ни на что, отпираться нагло — будь что будет. Не расстреляют же. А сознаваться вот так, перед всем классом, да еще после такого долгого молчания — нет, это невозможно.
— Зачем ты бросил галошу? — спросила Галина Владимировна.
— Какую галошу?
— Галошу Теренина. Вот эту.
— Я не бросал галошу Теренина. Ведь это его галоша. Зачем же я буду бросать чужую галошу? — Решение не сознаваться придало голосу Юрки удивительную уверенность.
Галина Владимировна не знала, что и думать.
— Что же, по-твоему, галоши сами летают?
— Не знаю, — ответил Юрка.
Это вывело Галину Владимировну из себя. Она стукнула ладонью по столу и повысила тон:
— Постыдись, Гайворонский! Набедокурил, а сознаться боишься?! Наташа, это он бросил галошу?
Если бы девочка не растерялась, Галина Владимировна почувствовала бы себя, наверное, бессильной. Но девочка растерялась. Сказать «да» — значит впасть в немилость Юрки, сказать «нет» — значит обмануть учительницу. Она так и замерла между двумя этими намерениями, только склонила голову. Но этого было достаточно. Галина Владимировна да и все ребята поняли, что бросил галошу Гайворонский.
— Садись, Гайворонский! После уроков останешься.
…Они сидели друг против друга — учительница и ученик.
Она — за столом, он — на первой парте. Галина Владимировна, сложив на журнале руки, смотрела в окно. Юрка нашел на парте чернильное пятно и старался пальцем растереть его — он ждал, когда Галина Владимировна заговорит. Но она молчала, смотрела пристально в окно и молчала. Юрка несколько раз исподлобья взглядывал на нее.
Вдруг ему стало не по себе от этого молчания, и он, не переставая тереть чернильное пятно, сказал:
— Галина Владимировна, это я бросил галошу.
Учительница посмотрела на него:
— Спасибо за признание.
— Я на Валерку разозлился.
— Из-за чего?
— Из-за дела.
— Из-за какого?
Юрка не ответил.
Он вдруг понял, что причина недавней злости на товарища до того ерундовская, что говорить о ней не то что стыдно, а просто позорно. Можно было без спора сказать Валерке, мол, топай один к Паршивенькой Катьке, а я не хочу. Почему правильно соображать начинаешь гораздо позже, когда дело сделано?