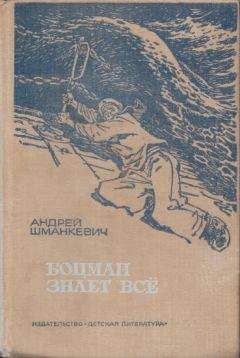И хотя во время перевязок Коля очень страдал, а после них почти всегда терял сознание, Митьке казалось, что он крепнет, поправляется. А когда сознание возвращалось, Коля даже улыбался, виновато глядя на доктора. Тот не выдерживал, срывал с носа очки и торопливо выходил из хаты. Выбегал и Петрухин, тихонько выходила бабка Матрёна, и только Митька оставался у постели, улыбаясь в ответ своему другу. Да, улыбаясь… А вот если бы он выбежал вслед за Петрухиным, то, наверно, завопил бы на всю станицу.
Были они погодки, и судьба у них была как с одной колодки. В штурме последнего эшелона, где-то под Харьковом, мать втиснула своего первенца Кольку через окно в вагон, передала ему грудную сестрёнку Алёнку, а сама попасть в вагон не успела — громыхнул у самого эшелона снаряд, рванулся со станции эшелон… Потом сестрёнку забрала одна молодуха, поделив материнское молоко между ею и собственным сыном, а Кольке, как расписку в приёме, сунула треугольничек красноармейского письма — письма от мужа.
— То ей от мужа письмо… — говорил Коля. — Я его на память, как песню, знаю… Тильки гарна людына може такого лыста до своей дружины написать. Треба думать, шо и дружина теж гарна жинка… — вдруг перешёл на украинский язык Коля. — Вот покончим с беляками, первым долгом явлюсь я до Марфы Степановны по этому адресу и поклонюсь ей в ножки за Алёнку-сестрёнку, а потом уж с Алёнкой подамся в родные края шукать матку с батькой.
А Митьку подобрала бабка Матрёна у пожарного сарая, в который свозили станичники всех беженцев, больных сыпным тифом. Подобрала, принесла на руках в свою хату, может быть самую неказистую во всей станице, стоявшую на самом пустом дворе, выходила и нарекла Васей. Нарекла в память сыночка Васи, которого так избил сосед Телешов держаком от вил за то, что тот выгнал телешовскую свинью со своего огорода, что, прохворав полгода, мальчик умер…
Где теперь мать с братишками, Митьке было неведомо. Помнил он только, что уже в тифозном бреду отстал от обоза беженцев и пошёл по станице просить Христа ради кусок хлеба…
— А почему же ты, Коль, сразу не поехал сестрёнку шукать? — спросил как-то Митька.
— Так они же под беляками тогда были… Вот потому и воевать пошёл… А ещё песню я услышал…
— Какую песню?
— «Интернационал» называется. Слыхал?
Митька пожал плечами:
— Может, и слыхал, да тиф память отшиб…
— Есть в той песне хорошие слова.
И Коля слабым голосом запел:
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Он умолк, а потом сказал:
— Я бы всё тебе пропел, да силов сейчас нет… Потом обязательно спою… Когда поют «Интернационал» или играют, так командиры честь отдают, а красноармейцы стоят смирно… Кто не военный, тот шапку снимает, потому что это гимн… Я так думаю, что это сам Ленин его для народа придумал… Я его и играть умею… На сопелке… Вот достань-ка мне её из сундучка…
Митька открыл Колин сундучок и достал завёрнутую в полотенце самодельную дудку-сопелку. Деревянную, некрашеную, с дырочками-ладами. Коля взял инструмент, и в глазах у него блеснул задорный огонёк.
— Петрухин очень любит, когда я играю… — сказал он как по секрету. — Всё жалостное просит… А заиграю жалостное, он щёку подопрёт и… плачет. Смешно. Такой пулемётчик — и плачет. — Но вдруг, посерьёзнев, добавил: — Да оно ведь воевать — не на прутике скакать… Сколько уж он на своей тачанке по фронтам мотается… Я У него за второго номера второй по счёту, а ездовой уже четвёртый. Только наша Красная Армия потому и сила, что один… выбудет, а на его место зараз же другой становится… Добровольно становится, а белякам где такого народу взять? Нет, скоро им крышка…
Коля долго лежал неподвижно и молча, с открытыми глазами, потом, вспомнив, что обещал сыграть на сопелке, встрепенулся, приложил пальцы к ладам и взял пищик в губы. Только звук получился хриплый и слабый, а пальцы не захотели бегать по ладам. Это так поразило Колю, что он даже посмотрел на сопелку, точно проверяя: да она ли это? Не подменили ли?
— Да не надо, Коль, зараз… Потом сыграешь… Вот Петрухин приварок принесёт, поешь… — стал успокаивать его Митька и осекся: впервые увидел слёзы друга. Они пробились из-под ресниц и потекли по худым щекам…
На третий день была перевязка, и по тому, как вдруг доктор сел на лавку у стены, как упали его большие красные руки на колени и опустились плечи, Митька понял всё. Впервые он выбежал раньше всех из хаты, упал на завалинку и не закричал, не заплакал, а застонал…
* * *
Похоронили молодого пулемётчика рядом с Васей на том месте, которое бабка Матрёна для себя берегла.
— Ничего, ничего… — шептала Матрёна. — Мы с Васенькой потеснимся.
Она не удивилась, когда Митька появился на пороге хаты в гимнастёрке. Она без слёз перекрестила его. Видно, все слёзы, отпущенные человеку на его жизнь, у неё иссякли.
Петрухин освободил Колин сундучок и передал Митьке. Вещей в сундучке было немного. То, что могло пригодиться Митьке, он положил обратно, а всё остальное отдал Матрёне на хранение. Пулемётчик долго смотрел на треугольничек письма с адресом и на дудку-сопелку, не зная, что с ними делать.
— Петрухин, — сказал Митька, — сопелку ты мне отдай. Попробую, может, и у меня что получится… А письмо положим в сундучок — кто останется, тот и разыщет Алёнку-сестрёнку. Пусть расскажет ей про брата…
Труба заиграла сбор, и Митька занял своё место на тачанке рядом с Петрухиным. Но прежде чем отряд покинул станицу, на площади был митинг. Когда комиссар отряда открыл его, оркестр заиграл «Интернационал». Впервые в своей жизни стоял Митька по стойке «смирно» и вместе со всеми пел:
Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой…
Трудно устанавливалась у нас на Кубани Советская власть. Сколько раз взрослые загоняли нас, мальчишек, в подвалы и погреба, когда по станице начинали бить из пушек и пулемётов.
В казачьих краях по-иному люди жили, чем в других местах. У казака надел земельный был немалый, и податей он не платил таких, какие платил обыкновенный крестьянин. Но всё равно и среди казаков были богатые и бедные.
А «мужикам», или, как называли их на Кубани, «иногородним», земли не полагалось, а подати вносить всё равно надо было.
Землю они покупали, если было на что, или пахали, сеяли и жали на землях богатых казаков исполу: собрал урожай — половину отдай хозяину.
Школы тоже были «казачьи» и «мужичьи».
Многие из нас даже в «мужичью» школу не могли попасть — мест не хватало. И пришлось учиться нам у кладбищенского сторожа, спившегося псаломщика, в кладбищенской сторожке.
Классной доски в сторожке не было, и учитель наш прямо на побелённой стене писал углем алфавит, по три-четыре буквы в день.
— Это первая буква, — пояснил он. — Зовётся она «А»… В букваре она вот такая, а писать её надо вот так… А ещё каждая буковка бывает маленькая и большая. Запомнили? А теперь повторяйте за мной хором, как эта буква прозывается…
Он взмахивал руками, как церковный дирижёр — регент, и мы в семнадцать голосов начинали жалобно тянуть это самое «А», точно голосили по всем покойникам, похороненным за стенами нашей «школы». А жалобно голосили потому, что псаломщик обещал каждого, кто не запомнит букву с первого раза, запирать на всю ночь в кладбищенскую часовню. При такой угрозе каждый заголосит…
Бумаги купить было не на что, и скоро все стены в хате у бабки Ковалихи, приютившей меня как сироту, я исписал буквами и цифрами. Бабка не ругала меня. Она даже помогала мне запомнить азбуку. И делала это так старательно, что к первой весне моей учёбы знала не меньше меня, хотя до этого была совсем неграмотная.
Сначала мы думали, что гражданская война — это война между мужиками и казаками за землю. Но скоро и мы, ребята, стали понимать, что это шла война за новую жизнь, ещё не виданную на земле, в которой все люди будут равны друг перед другом. Узнали мы, кто такие большевики и меньшевики, красные и белые. Красные вместе с Лениным боролись за Советскую власть, за равенство, беляки отстаивали старое — царя и богатеев. Красных называли товарищами. Первое, что они сделали для детей голытьбы, — это перевели нас из сторожки в настоящую школу, бывшую «казачью».
Сколько раз наша станица переходила из рук в руки!..
Но вот пришёл день, когда у нас в станице навсегда установилась Советская власть. И слова «товарищи», «большевики» стали для нас привычными. А вот слово «комсомол» пришло к нам позже, чем в большие города.
— Что такое комсомол? — спрашивал я у ребят.