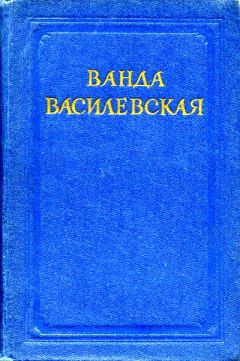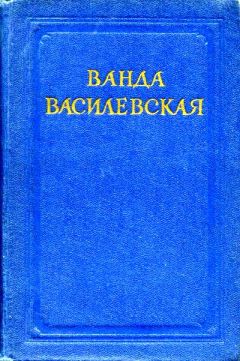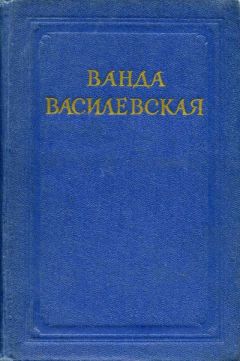Да, в самом деле, ведь тогда, во время пожара, от которого у Зоси и сейчас еще розовые рубцы на руках, старушка на четвереньках подползла к печке. Целые дни она проводит в постели. Что же будет теперь?
Зося тихонько подходит к закрытой двери и стучится.
— Войдите, — отвечает знакомый голос.
Зося входит. Да, бабушка Калиновская лежит в постели. Из-под темного, завязанного под подбородком платочка выбиваются пряди седых волос. На старом одеяле лежат сморщенные маленькие руки.
— А, это ты, Зося! Подойди, подойди, детка! Что там у вас слышно?
Зося рассказывает ей про Анку, про Адася, про то, как хорошо учится Игнась, и в то же время осматривается вокруг. Грязно тут, уныло, совсем не так, как у них в комнатке. Их комнатка маленькая, но такая славная и чистенькая.
За печкой стоит ведро с углем, но в комнате, видно, давно не топлено. Ужасно холодно.
Калиновская слабо протестует, когда Зося принимается топить. Но потом лежит уже совсем тихо и смотрит, как Зося хлопочет у печки.
— Видишь ли, Маня моя заболела, и я лежу здесь одна-одинешенька…
— Я тут у вас приберу. Сразу станет лучше. На обед тоже надо что-нибудь сварить.
Так это началось. Вечером Зося рассказывает Анке про Калиновскую.
— Это хорошо, — говорит Анка. — Обед ты сможешь варить вместе с нашим, а потом относить ей. Меньше будет хлопот. Отдельно готовить — больше уйдет, а так она при нас прокормится.
Зося рада. На следующий день она забирает с собою Адася. На улице так холодно, что во дворе играть нельзя.
И вот — как странно! — оказывается, бабушка Калиновская тоже приехала из деревни, как мама.
— Милая ты моя, да ведь все сюда из деревни когда-то приехали искать лучшей доли, — объясняет ей Калиновская.
Адасю хочется спросить, нашла ли Калиновская лучшую долю. Но Зося во-время дергает его за рукав.
И еще оказывается, что бабушка Калиновская очень любит детей и что она знает много интересных сказок и веселится и смеется вместе с Адасем.
Старушка сидит, опершись на подушку, Адась — около нее на стуле.
— А ну-ка, Адась, скажи, что это такое: в лесу росло, листьями трясло, в село попало — заиграло?
Адась думает, думает. Наконец, торжествующе вскрикивает:
— Корова!
Калиновская тихонько смеется тоненьким смешком.
— Это корова-то в лесу росла?
— Дерево!
— Ну, дерево-то ведь не заиграло в селе!
Адась не может отгадать.
— Да контрабас же!
— Что за контрабас?
Старушка перестает смеяться.
— Правда, где ты мог видеть в городе контрабас? А в деревне на нем музыканты на свадьбах играют.
Так обыкновенно заканчиваются разговоры с Адасем.
Старушка Калиновская вздыхает. И Зося знает — она тоскует по деревне, так же как тосковала мама.
Но вот Калиновская устраивается поудобнее на постели и начинает другое. Зося всегда с нетерпением ждет этих рассказов. Старушка многое-многое помнит. Каждый год, каждый месяц, каждый день, прожитый за ее долгую жизнь, развертывается в рассказах старой женщины, как ниточка из клубка. И ниточка эта не одного цвета — то она тянется серая и печальная, то засверкает вдруг всеми цветами. И Зосе кажется странным, как это один человек мог пережить так много.
— Когда мы жили в другой квартире, на Слизкой улице… Погоди, сколько ж тому лет будет? Ого-го, немало лет… Была я тогда уж не очень молоденькой, но и стара еще тоже не была. Я тогда на ткацкой фабрике работала, у ткацкого станка…
— Как Анка, — робко замечает Зося.
— Анка — она же у прядильного, а не у ткацкого. Да и что теперь за работа! А тогда! За станком стояли мы с утра до вечера, а мастер был строгий, ой и строгий! Ни словечком перемолвиться, ни передохнуть не давал! И фабрика была совсем другая, не такой огромный домина, как потом понастроили. И работало не столько людей, как теперь, а работу все-таки легче было получить, чем нынче. Да, о чем это я хотела сказать?.. Ага… Муж мой тогда тоже работал, в прядильной работал, да.
И бабушка Калиновская начинает свой рассказ про это давнее время.
— И вот говорит мне раз мой Ян, муж мой, значит. Так, мол, и так, Малгося, — меня Малгожатой звать, — надо, говорит, снести кое-что в одно место. Я сразу догадалась, что это может быть. Потому что это было такое время, когда рабочие с царской властью воевали.
— А солдаты были? — спрашивает Адась. Он очень мало понимает из всех этих рассказов.
— Какие там солдаты! У царя были солдаты, а у них ничего не было, только что свои руки. А на фабрике, где мы с мужем работали, каждый рабочий так был зол на царскую власть, что ужас! И мой тоже делал там разные дела, только я не выспрашивала — знала, что тайное это.
А за ним уже следили, подсматривали, разнюхивали, надо было остерегаться. А тут как раз нужно было оружие перенести в одно место, покушение готовилось на одного самого подлого. Ну, я взяла и понесла.
Взяла это я тючок, иду себе помаленьку, будто так, ничего особенного. А по коже у меня так мурашки и бегают. От тяжести и от страха всю в пот бросает.
И все мне казалось, что кто на меня ни посмотрит, так сейчас уж и знает: ого, Калиновская оружие несет!
— И что? И что?
— Да ничего. На место как следует принесла и оставила. Теперь, когда я лежу вот в постели, ногой шевельнуть не могу, так мне странно даже, как подумаю, неужто это я та самая, что когда-то со Слизкой улицы через весь город с оружием шла!
Старушка задумывается на минуту.
— А еще когда-то… жил у нас парень, молодой такой, веселый…
Как самую интересную сказку, слушает Зося эти старинные истории, которые бабушке Калиновской кажутся совсем недавними и близкими.
Разноцветной мозаикой развертывается долгая жизнь. Свадьба в деревне. Молодая девушка, всю ночь танцующая до упаду. Гремящие станки ткацкой фабрики и склонившаяся над ними молодая женщина. И, наконец, эта унылая, запущенная комнатка и лежащая на кровати старушка с парализованными ногами. И все эти три женщины — все одна и та же Калиновская.
Зося смотрит на морщинистые, дрожащие руки, на изборожденное морщинами лицо. Каждая такая морщина — след, который жизнь, проходя, откладывала на некогда гладком лице молодой девушки. Трудная, тяжелая это была жизнь. Сначала спина сгибалась над глинистой пашней, в сенокос и жатву лился с лица пот. Потом — работа на фабрике. Та пора, когда ткачиха шла по улице, неся тяжелый сверток с оружием для борьбы с угнетателями. Троих детей выходила Калиновская, «вывела в люди», как говорила она. А теперь, когда она лежит беспомощная, больная, возле нее нет никого.
— Да, Маня всегда относилась ко мне лучше всех, а теперь, когда она в больнице, никто уж обо мне не позаботится. Сыновья уехали, поженились, один в Америке. Говорят, ему хорошо живется, но про старую мать он не вспомнит.
У Зоси слезы навертываются на глазах. Заботливо поправляет она одеяло на ногах старушки.
— А ты, милая девочка, и все вы хорошие, что о старушке позаботились. Нелегко, нелегко жить на свете человеку, когда он уже не может работать…
Зося не знает, что сказать. А как хотелось бы ей утешить старушку! Ее маленькое сердечко возмущается такой несправедливостью.
Ведь эта Калиновская так тяжело работала всю свою жизнь не для себя — для других, для этих детей, которых она «вывела в люди». Неужели за все это ей не полагается спокойный угол, лучший, чем эта тесная каморка, и уход, лучший, чем она имеет, потому что в сущности она не имеет никакого. Но Калиновская не умеет долго печалиться. Несмотря ни на что, в ней еще сохранилось много бодрости.
— Эх, — говорит она, махнув рукой, — нечего тоску наводить! Вот лучше я расскажу вам, как меня раз мальчишки в деревне напугали.
Адась поскорее бросает щепочки, с которыми он возился у печки, и подбегает к кровати. Из предыдущего рассказа он мало понял. А вот такие истории — это для него. Он прислоняется к кровати и слушает.
— Вышла это я раз вечерком, потому что услышала какой-то скрип во дворе, да и отец говорит: «Конюшня, наверно, не заперта, надо бы запереть…»
Калиновская все рассказывает и рассказывает. В комнате чисто и уютно. Весело потрескивает огонь в печи.
Глядя на лица сидящих подле нее детей, старушка забывает о своих горестях и заботах, и бремя многих лет как будто спадает с ее плеч.
Глава VIII
П Р О С Т О Й С И Т Е Ц
Возвращаясь с фабрики, Анка остановилась перед витриной. В ярком свете лампочек пестрели за стеклом разноцветные материи. Были здесь и однотонные, и с цветочками, и в горошек, и в полоску, и со всевозможными узорами.
Рядом с Анкой остановились две девочки.
— Какая тебе больше всего нравится?
— Сама не знаю… Вот эта, в горошек, красивая… Вон та с красными маками, гляди.
— Ну, это же простой ситец, — с гримаской ответила другая.