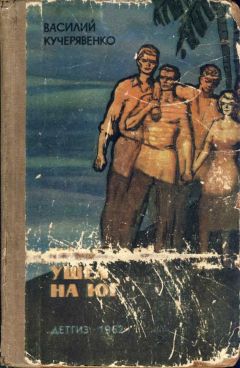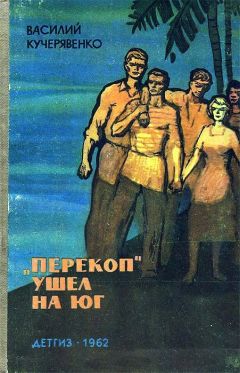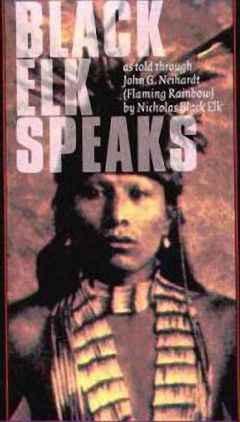Чочой, обхватив мать руками, прижался к ней, не в силах оторвать взгляда от шамана.
Пламя жирника разгоралось, дымя черной копотью. Но огня никто не поправлял.
Быстро отцепив от головы покойника привязанную арканом палку, шаман взял ее в зубы как раз посередине, а концы обхватил руками. Голова его снова затряслась, задрожали мелкой дрожью колени. Выронив изо рта палку, Мэнгылю схватил свой бубен и встряхнул им что было силы над головой. Задребезжали трензеля, зазвенели звонки, залязгали костяные кружочки. Судорожным движением прижав бубен к груди, шаман скорчился, словно у него сильно заболел живот. На лице его выступила испарина. Резко выпрямившись, он ударил китовым усом по бубну и, оскалив желтые крепкие зубы, завыл.
— Гоо! Ооо! Ооо! Гогого!.. А ата, ата! Ата! Га як-кай, якай, якай! — восклицал он и снова принимался выть то на очень высоких нотах, то опускаясь до хриплого баса.
Затем, встав на колени, Мэнгылю завихлял бедрами; загремели побрякушки, закачались воронья голова, совиные когти, медвежьи зубы, прицепленные к шаманскому поясу.
— Го-гооо-го-гооооо!.. — тянул шаман, колотя в бубен.
Все резче и резче становились движения шамана, все громче и громче были его выкрики. Чочой с остановившимися, полными ужаса глазами смотрел на Мэнгылю и все плотнее прижимался к матери своим худеньким вздрагивающим телом. Мальчику порой казалось, что он. спит и видит кошмарный сон.
А шаман между тем продолжал бесноваться. Вот он упал в изнеможении на спину рядом с покойником и забился, как в припадке черной болезни.
Люди с окаменевшими лицами смотрели на шамана, и никто из них не осмеливался сделать ни малейшего движения.
Вот, закрыв лицо бубном, шаман неожиданно замер и долго лежал неподвижный, словно бездыханный, как и покойник, находившийся рядом с ним. Чочою показалось, что Мэнгылю умер. Нервы мальчика были напряжены настолько, что ему казалось — вот-вот что-то лопнет у него внутри, и он уже не сможет молчать, не сможет сидеть на одном месте. Горе тогда ему будет: Чочой знал, что шаман может даже убить в припадке бешенства, если помешать его камланию.
Вдруг, отняв от лица бубен, шаман так же неожиданно встал. Лицо его казалось спокойным, но страшно усталым, изможденным.
— Одевайте... — слабым голосом сказал он, натягивая на себя кухлянку.
Шаман вышел из полога. За ним потянулись и другие. В пологе остались лишь мать Чочоя да еще две старушки эскимоски. Они одели покойника в новую одежду, обвили его тонким нерпичьим ремнем. К груди привязали комок плиточного чаю, курительную трубку, кожаный мешочек с табаком, спички, кусочек мяса. Старушки перешептывались между собой. Они говорили о том, что Кэргын был хорошим человеком, что он непременно должен очень скоро попасть в «долину предков». Из их слов Чочой понимал, что отец хотя и умер, но должен пойти куда-то далеко-далеко, для этого ему и привязывают на грудь мясо, табак, трубку, чай — все, что может пригодиться в пути. «Отец уходит совсем, навсегда уходит».
Глянув на бледные, безжизненные руки отца, Чочой вспомнил, какими они были теплыми и ласковыми еще совсем недавно. Неудержимая сила влекла Чочоя прикоснуться к мертвым рукам отца, и в то же время что-то останавливало его.
Одна из старух вырезала в боковой стене полога дыру, чтобы вынести тело покойника. По обычаю чукчей, не полагалось выносить умершего через вход полога.
Покойника вынесли. За ним вывели под руки жену и сына. Тело Кэргына положили на узкую, длинную нарту, поставленную на две круглые жердины.
Приложив руку к магическим кругам на груди, Мэнгылю сказал чуть хрипловатым голосом:
— Сейчас узнаю, на каком месте желает быть похороненным Кэргын.
Опустившись коленями прямо на снег, Мэнгылю взялся за копылья[9] нарты и принялся двигать ее взад и вперед. Круглые жерди слегка шевелились, вдавливаясь со скрипом в снег. Порой шаман замирал, опустив низко голову, а затем снова принимался двигать нарту, называя сначала шепотом, а потом вслух окрестные места вокруг поселка. Наконец, после того как Мэнгылю назвал один из самых дальних холмов у небольшой речки, на которой Чочой летом любил ловить рыбу, нарта, по мнению шамана, заскользила по жердям легко.
— Нарта скользит сейчас легко. Кэргын желает быть похороненным на этом холме, — сказал шаман, поднимаясь на ноги.
Одна из женщин подбежала к шаману, голой рукой отряхнула с его колен снег.
В нарту впряглись несколько мужчин. Низко склонив голову, они медленно тронулись в путь. И как раз в тот момент, когда Чочой рванулся вперед, чтобы вцепиться в нарту и остановить ее, кто-то взял его за плечи и строго сказал:
— Путь у твоего отца далекий. Тебе еще рано с ним в дорогу...
Чочой глянул вверх, увидел склоненное над собой одноглазое лицо шамана. Мальчик беспомощно опустился на корточки и заплакал.
Когда похоронная процессия скрылась из виду, Чочой вошел в ярангу, забился в угол между пологом и сломанной нартой, заваленной домашней рухлядью, и, уткнувшись лицом в колени, замер.
Подавленный горем, долго сидел Чочой на одном месте. И вдруг он ощутил легкое прикосновение к своему лицу. Чо- чой вздрогнул, поднял голову и увидел свою любимую собаку Очера. В умных глазах Очера была тоска. Чочой мгновение смотрел в эти выразительные глаза, затем обнял собаку за шею, прижал к своему лицу. Очер поднял кверху морду и завыл протяжно, заунывно.
— Не надо, не надо плакать, Очер, — приговаривал Чочой, глотая слезы. — Я знаю, как тебе жалко отца. Он очень любил тебя, Очер. Я не раз слыхал от него, как он тебя хвалил, говоря, что ты вывозил его упряжку в самую сильную пургу, когда нельзя было найти дорогу.
А Очер, прижимаясь пушистой шеей к лицу Чочоя, все выл и выл, словно хотел поведать миру о том, как тоскливо ему сейчас, когда он потерял своего любимого хозяина.
Погруженный в горе, Чочой не заметил, как в ярангу вошел маленький негр Том. Несмело кашлянув, Том подошел к Чочою и, опустившись на корточки, тихо сказал:
— Не плачь, Чочой. У тебя нет больше отца, но у тебя есть мать и друзья.
Чочой, отпустив Очера, вытер глаза грязными кулачками и слабо улыбнулся Тому.
Том тяжело вздохнул и сказал как можно тверже, как и полагается настоящему мужчине:
— Дай руку, мой друг! Клянусь тебе, что никогда и ни за что на свете не оставлю тебя одного в беде!
— Спасибо, Том, спасибо тебе... — тихо ответил Чочой, крепко пожимая худенькую черную руку товарища.
— Пойдем к нам в хижину, — ласково пригласил его Том. — Может, отец мой споет нам свои негритянские песни. Ты же очень любишь слушать, как поет мой отец...
Опираясь на плечо Тома, Чочой встал на ноги.
— Пойдем с нами, Очер, — сказал он, погладив собаку.
Когда Чочой и Том подходили к хижине негра, навстречу им из-за сугроба вышли сыновья Кэмби. Впереди Дэвида шел его старший, восемнадцатилетний брат Адольф.
В противоположность Дэвиду Адольф был тощий, костлявый, с худым благообразным лицом. Темные глаза его казались задумчивыми и даже грустными.
— Вот тебе, пожалуйста, — повернулся в сторону брата Адольф, широким жестом указывая на Чочоя, — этот мальчишка потерял отца. Лет в пятнадцать-двадцать он, быть может, и сам умрет...
Чочой был ошеломлен этой фразой. «Как — умру? Почему так скоро умру?» — хотелось ему спросить, но он молчал, не сводя немигающих глаз с Адольфа. А тот продолжал:
— Народы эти у нас вымирают, как вымирают зубры. Но для зубров устраивают заповедники, чтобы как-то спасти их от вымирания. А почему же здесь для этих народов ничего не делается?
— Вот колледж окончишь, потом в университет пойдешь, после университета заповедник для эскимосов и чукчей устроишь, бизнесменом станешь!
Еще долго разглагольствовали братья, загородив собой тропинку и словно не замечая, что мальчикам хочется пройти дальше.
— Вот посмотри хорошенько на него...—Адольф присел на корточки и сочувственно улыбнулся Чочою. — Какое худое у него лицо! На этом лице — явные признаки обреченности... А ну-ка, мальчик, сними малахай, покажи нам свою голову...
— Сейчас же зима, он простудится, — не выдержал Том. — У него же отец умер...
— Что? — удивленно поднял брови Адольф. — Простудится? А это кто там подал голос? Это ты, черномазый?
Сочувственной улыбки на лице Адольфа как не бывало.
— Оставь ты их сегодня в покое обоих, — лениво посоветовал Дэвид. — Меня не столько эти щенки привлекают, сколько вот эта настоящая собака. — Он указал глазами на Очера.
У Чочоя болезненно сжалось сердце. Он обхватил руками шею Очера и вполголоса сказал:
— Пойдем, Очер, пойдем скорее назад.
Дернув Тома за рукав, Чочой поспешил отойти со своим другом от сыновей Кэмби как можно подальше.