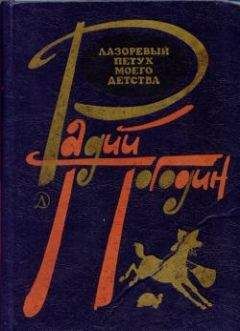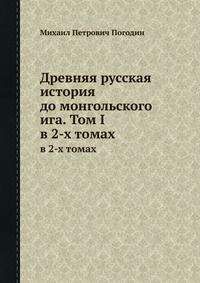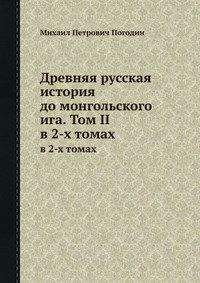Ганс голову уронил и пошел. Медленно, все кутаясь, втянув голову в плечи, – будто в плен пошел.
Мальчишка воротился в деревню, побродил возле старикова крыльца, но зайти в избу постеснялся. Засмеет дед, скажет:
«Случилось тебе привидение, Сенька. От болотных паров. Окаянный с болота пар – дурной на слабую голову».
Сенька пошел к ребятишкам. Все ребятишки деревенские околачиваются в одном дому. Дом этот в две комнаты – бывшая школа. До войны проходили здесь трехклассное образование, а сейчас пусто. Всех ребят свыше десяти лет немец погрузил в крытую автомашину и увез в один час в Германию.
Сидят малыши на теплом полу – им веселее вместе. И Тамарка Сучалкина, и Сережка, и Николай, и Маруська.
Когда Сенька к ним вошел с топором и бутылкой, ребятишки окружили его. Сенька сказал:
– Чего выставились? Я возле болота красноармейца пораненного видел. А когда понес ему холодной воды попить, уже не стало красноармейца.
– Это его Свист утянул в болото, – сказала Тамарка Сучалкина, самая старшая из малышей. Сказала и съежилась. И все ребятишки за ней следом съежились – таращат испуганные глаза.
Сенька вспомнил следы на болотной кромке, затянутые черной водой.
– Врешь, – сказал он погодя. – Нашего бы Свист не затянул. Что ему, немцев мало?..
О Свисте старик Савельев рассказывал Сеньке сказку-быль.
Свист на болоте живет в трясине. Он вроде полоза, толщиной в бревно, длиной метров десять – двенадцать, как сосновый нераспиленный хлыст. Цвета он какого захочет, такого и станет, хочет с сиянием, а то с переливами. Глаз у него один, зато во все стороны видит сразу. Говорит Свист человеческим голосом, а как засвищет, резь в ушах стоит целый день и еще долго потом в затылке печет и с души воротит. Это сказка.
А вот быль.
Одному мужику возле болота батька отделил отруб. Еще в старое время – до революции. Мужик был здоровый. Прозывался Кузьмой. Срубил он избу. Жену перевел туда и ребят. Только они первую ночь легли ночевать – засвистало. Кузьма из ружья шарахнул, а оно свистит. Потом заговорило:
– Уходи, Кузьма, – это мое место. Не уйдешь – изведу.
– Не уйду, – ответил Кузьма. – Мне уходить некуда. Здесь у меня земля распахана.
– И мне идти некуда, – сказал Свист. – Меня люди отовсюду выжили. У них и города, и поселения, и паровозы. И в небо уже люди полезли. Уйди, Кузьма, ты себе место найдешь.
Кузьма заупрямился. Мужик землю съест – другому не бросит. Жалко ему землю. Не может он этого. К тому же изба своя, еще новая.
Назавтра было тихо. Свист Кузьме сутки на раздумье определил, а после снова принялся свистать. С каждой ночью все ближе и ближе. Уже в сенях свистит. Говорит:
– Завтра, Кузьма, к тебе на печь заползу, старые кости погрею. Ты натопи пожарче.
Жена Кузьму просит:
– Уйдем, невмоготу мне.
Ребята ревут. Сам Кузьма похудел, почернел с лица.
На следующую ночь отправил он жену с ребятами к отцу своему. Сам притаился. Как только на печи засвистало, выскочил Кузьма на двор, дверь припер колом и поджег избу. Когда народ из деревни сбежался, уже крыша обвалилась. А Кузьма кружит вокруг избы и хохочет.
– Ну, – кричит, – кто кого извел?
Стены рушиться стали – поднялся над избой черный столб, а внутри его огненный шар, как сверкающий глаз. Засвистало. И осыпался столб на болото красными искрами. Потом трубно завыло, захохотало жутко и крикнуло:
– Спасибо, Кузьма, согрел ты мои косточки, теперь я еще тысячу лет проживу!
Все у Кузьмы сгорело: и изба, и скотина, даже куры. Хотел он снова строиться. То ли жена его отговорила, то ли не собрал денег достаточно. А поистине – не может мужик избу ставить на том месте, где ему однажды не повезло. Плюнул Кузьма и уехал из тех мест.
После пожара мужики приводили на болото попа. Поп подошел к самому краю, кадилом кадит. Огонек от кадила оторвался, побежал по болоту синими языками. А в самой трясине заухало, захохотало. Сказал поп, что болото самим богом проклято и позабыто, что во веки веков будет Свист его полновластным хозяином. Мол, недаром по Руси только в топких болотах живут черти подлинной дьявольской силы – падшие и наказанные божьи ангелы.
Место, где сгорела изба, назвали Кузьмовой гарью. Так и называется до сего дня. Растет на Кузьмовой гари малина. Разрослась густо, высоко, выше самых высоких деревенских парней. Свободно захватила землю вокруг. Ягоды на ней крупные. Говорят, посередке, где фундамент избы, вырастают ягоды темного цвета, величиной в сосновую шишку. Посередке никто из ребят не бывал – боязно.
Хозяином этого сада – Свист.
Сенька, когда был маленький, забылся и залез с краю в гущу. До середки не дошел – засвистало тихонько. Вслед заговорило сипатым басом. Словно по земле или, может, прямо из земли:
– Ты зачем мои ягоды ешь? Или тебе по краям мало? – И громче свистнуло.
Когда Сенька бежал, обдирая лицо о колючки, слышался позади него смех.
К кому идти спрашивать? Кому свой страх рассказать? Один человек на деревне, который все объяснить умеет.
– Дедко Савельев, – спросил Сенька, – кто Свист – мужик или девка? Когда меня пугал – как мужик. Когда смеялся – как девка.
– А ты не ходи, – сказал ему дед. – Не лазай куда не просят до времени.
Медленно отжил, отсветил пусторукий, тяжелый день. В вечер Ганс принес на конюшню бутылку водки. Позвал работниц со скотного двора и работника. Выпили за Гансово возвращение. Еще выпили – за то, что вернулся неискалеченным. И еще за то, что Россия с Германией замирились. Под эти слова Ганс обнимал Савельева – братался. Потом полез к лошадям. Гладил их, целовал, шлепал по тугим животам. Прятал свое лицо в жесткие гривы, наверное, плакал, но лицо его оставалось немым и недвижным. Затем он снова всем налил водки.
Савельев уже понимал по-немецки настолько, что смог разобрать, о чем идет речь. Ганс выкрикивал, что его Марта стерва, гулящая девка. Мол, сошлась она с его братом, что приезжал сюда на побывку.
– Ребенок будет! – кричал Ганс, стуча себе в грудь кулаком.
Работницы аккуратно вздыхали, сочувственно охали. Работник, белый и тихий, как рыбье брюхо, сопел, нюхал в стакане водку.
– Наследник, – сказал он. – У вас детей все равно не было. Бог вам послал. Это хорошо. Радуйтесь.
Бабы испуганно переглянулись, поджали губы. Ганс захохотал и, мешая слова с хохотом, с хрипом, задыхаясь, выкрикнул:
– Волчонок! Волчонок! Я брата задушу. – Свою угрозу он сказал так, что никто ему не поверил.
Бабы снова принялись вздыхать, бормотать что-то о злых языках. Работник глотнул водку, остаток выплеснул на землю.
– Бог послал, – повторил он и вышел.
Вслед за ним вышли работницы.
Ганс попробовал было захохотать снова, но из горла у него вывалился вместо хохота всхлип.
– Понял? – спросил Ганс, зло и вместе с тем обреченно скривившись.
– Понял, – ответил Савельев.
– Ребенок братов. Эти галки сейчас по всей земле разнесут.
Савельев ничего не ответил. Ганс шлепнул его по плечу, как шлепают побежденного, чтобы утешить.
– Завтра я тебя отвезу в Эрфурт. – Выпил остаток водки и пошел обнимать коней.
Он, наверно, лошадей любил и, наверное, понимал хорошо. Он гладил их – расцеловывал. Кони терлись о его голову головами, переступали с ноги на ногу осторожно. Ганс завалился в кормушку к кобыле и захрапел. Кобыла тихо вытаскивала из-под него мягкое сено, касаясь его щеки шелковыми губами. Ганс поеживался сладко и улыбался.
Савельев прикрыл дверь конюшни. Направился к лесу, к тем местам, на которых они с Мартой были, туда, где слышался ему колокольный звон с неба.
За скотным двором прямо на земле на коленях стоял работник. Его тошнило. Он сгибался как-то весь сразу, колесом, как резина. Савельев остановился за его спиной. Обождал – может, человеку помочь нужно. Когда работнику стало легче, когда он утер рукавом белые губы и когда он встал на ноги и обернулся к Савельеву, Савельев увидел в его глазах, где-то там позади боли, чистый ум и молчание.
Савельев пошел дальше, но работник догнал его:
– Адрес оставь. Я тебе сообщу, кто родится. – Он тут же смущенно сморщился и добавил: – Бабы не знают. Я только знаю.
Савельев шел по сухой траве под деревьями, одетыми в бурую рвань. Лес, как изголодавшаяся плененная армия, стоял с поднятыми кверху руками. Листья на земле давно уже начали преть. От них исходил влажный подвальный запах. От этого запаха, от этого расползающегося под ногами крошева листьев, из этого лесного склепа Савельев выбежал в поле и упал в стерню.
Марту он больше не видел. Когда садились в бричку, он знал, что она там, за кирпичными стенами, на коленях перед девой Марией. Она не смотрит в окно на него, уезжающего. Ей не нужно смотреть на него уезжающего. Он остался в ней самой и в иконе.
…Тамарка девчонка прицепистая. Смотрит на Сеньку глазами выпученными. Зелены, недоверчивы у нее глазищи. Когда в них попадает свет сбоку, они вспыхивают, будто кошачьи.