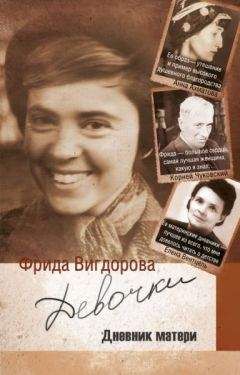«Дорогие мои, я не пишу вам слов утешения, я с вами, чувствуйте меня рядом с собой, как чувствую я вас. Бывает иногда в жизни такое, что кажется – выхода нет: погибай или отступай. Но я знаю, ты не отступишь. Верю тебе, Семен. Найди в себе силы перенести это страшное горе, стань сильнее горя, помоги Гале.
Твой Антон».
Если я и вынес, то только потому, что должен был помочь Гале, а ребята помогали мне. Я все время был с ними и уверен: они понимали, что нужны мне, как воздух. Они обращались ко мне с тем, что прежде решали и делали сами, без меня. Они шли ко мне с каждым пустяком, со всякой мелочью. Они не оставляли меня одного ни на минуту. При этом я не ловил на себе никаких сожалеющих взглядов. Они сочувствовали мне сдержанно, по-мужски, и как мужчины, как товарищи мне помогали. Король был около меня почти неотступно. Не встречался глазами, не заводил разговоров – просто был рядом.
– Давайте распилим… Как по-вашему?.. Объясните нам… Вот рассудите нас, мы тут поспорили… Ну, как же мы без вас на огороде… Из колхоза просили помочь, идемте с нами, Семен Афанасьевич?
Так было весь день. А потом наступала ночь, и вот тут становилось худо: спать я не мог. Не спала и Галя. Она почти и не ела.
Она не работала, и у нее совсем уж не было никакого спасенья. Встав поутру, она брала Леночку и бродила с нею по парку, по лесу. Я знал: в это время в лесу и в парке непременно есть кто-нибудь из ребят, чаще старшие, а из тех, что поменьше, – Лира. Этот стал молчалив и сумрачен, точно сразу подрос: уже не было внезапных выходок, приступов шумного озорства. И он, как Король, старался все время быть у меня под рукой. Галя сделалась на себя не похожа – остановившийся взгляд, темные круги под глазами, запавшие щеки. Она не плакала и молчала. «Закаменела», – говорила тетя Варя. И я тоже молча ждал, пока она в силах будет заговорить.
– Сеня, – сказал она однажды, – уедем отсюда.
– Галочка, куда же?
– Не могу я тут… – начала она и смолкла.
Она больше не возвращалась к этому разговору, но сердце у меня сжалось. Я понял: ей здесь нельзя оставаться. А я – как я могу уехать? Как оставлю ребят?
Осень подходила не торопясь, но мы во всем видели ее приближение. Папоротники стали рыжими. Зашуршал под ногами палый лист. А Леночка принесла мне стебель ландыша, на котором вместо легких белых колокольчиков висели крепкие оранжевые шарики:
– Какие это ягоды?
– Ландышевые семена, Леночка, – ответила за меня Екатерина Ивановна. – Осень, Леночка, осень…
Дела было много, и дело не ждало. Я изо всех сил старался оглушить себя работой, и только мысль о Гале по-прежнему не давала мне покоя.
И вот в конце октября пришла телеграмма:
«Жду тебя Киеве. Сдавай дела, есть большая работа Украине.
Макаренко».
Несколько дней я никому не говорил о телеграмме. Потом дал ее Алексею Саввичу. Он прочел и, отвернувшись, положил было на край стола. Потом показал Владимиру Михайловичу. Тот, в свою очередь, прочел, помолчал, наконец сказал негромко:
– Так… Ну что ж, это правильно… правильно, что поделаешь…
Ночью я написал Антону Семеновичу письмо – всего несколько строк:
«Я не вправе уезжать сейчас. Вы должны понять это, Антон Семенович».
Ответ был краток, и я тоже помню его слово в слово:
«Ты – мой ученик, и мы столько лет жили и работали рука об руку. И ты считаешь, что я могу предложить тебе дезертировать? Я думал, ты лучше знаешь меня. Здесь есть работа, которую я могу и хочу поручить именно тебе. Я знал о ней давно, вот почему и писал уже, чтоб ты подумал о том, кто тебя заменит. Приезжай. Ты нужен здесь. Пробудь в Березовой столько, сколько тебе понадобится, чтоб быть уверенным: оставляешь дело в надежных руках».
Я читал и перечитывал это письмо. Смотрел на спящую Галю и думал: забыть – она никогда не забудет. Но пусть каждая дорожка, каждый угол, каждое лицо не напоминают ей. Пускай вокруг будут новые люди, новые заботы. А главное – работать, ей непременно надо работать.
На другой день я поехал в гороно. Увидев меня, Зимин поднялся и, прежде чем я успел вымолвить слово, сказал:
– Товарищ Макаренко написал и нам. Мы согласны с ним. Мы вас, конечно, отпустим.
Помолчали.
– Тяжко вам, я понимаю… – начал Зимин.
– Не понимаю, как я уеду отсюда, – сказал я сквозь зубы. – Как ребят оставлю…
– Вы их в хороших руках оставляете, – сказал Алексей Александрович.
Вернувшись домой, я показал письмо Антона Семеновича своим товарищам: гороно будет думать своим чередом, давайте и мы подумаем, кому лучше руководить нашим домом.
Я смотрел на этих людей – они стали мне дороги и близки, как бывают дороги и близки только те, с кем делил мысли и труд, кому доверяешь до конца, без оглядки. Что-то они скажут?
– Я думаю, лучше всего было бы поручить это Николаю Ивановичу. Он молод, энергичен, хорошо знает ребят, любит нашу, работу.
Это сказал Алексей Саввич – сказал медленно, взвешивая каждое слово и глядя на всех по очереди, будто спрашивая: Так? Верно?
– Совершенно согласен, – сказал Владимир Михайлович, наклоняя седую голову.
– Я тоже думала об этом, – сказала Екатерина Ивановна.
– Но мы вовсе не собираемся здесь долго оставаться! – резко прозвучал голос Елены Григорьевны.
– Я никуда отсюда не уеду, – не взглянув на жену, твердо сказал Николай Иванович. – Спасибо, что верите мне. Но я ведь здесь недавно, меньше всех вас. Справлюсь ли?
– Вы можете положиться на нас, – спокойно сказала Софья Михайловна.
Будь я на месте Николая Ивановича, эти краткие слова придали бы мне больше бодрости, чем любые длинные дружеские заверения.
– Будем работать все вместе, как и прежде, – промолвила Екатерина Ивановна.
Елена Григорьевна сидела, закусив губу и не поднимая глаз.
– Большое спасибо! – взволнованно повторил Николай Иванович и повернулся ко мне: – А вы-то как думаете, Семен Афанасьевич?
– Я согласен с товарищами и доложу о нашем решении в гороно, – сказал я.
Да, я был полностью согласен с товарищами и знал: все они помогут Николаю Ивановичу и каждый будет работать так, словно вся ответственность за дом и детей лежит на нем самом.
Ребятам я не говорил ничего. Решил, что не скажу до последней минуты.
Дел у меня стало еще больше. Постоянно приходилось бывать в Ленинграде, и жалко было отрывать время на эти поездки, хотелось как можно больше быть среди ребят. До последнего дня я старался не думать о разлуке. Я был занят по горло и думать действительно не успевал. Но вот настал канун отъезда.
Я сидел за своим столом в кабинете, положив голову на руки, и думал. Как я их оставлю? Как буду без них? Как они – без меня? Так много не завершено, так много впереди. Нам разрешили организовать пионерский отряд. Красный галстук – наша новая завтрашняя радость. Но меня уже здесь не будет. Шестой класс, а там и седьмой – почти среднее образование! Но меня уже здесь не будет…
Закрыв глаза, я видел Короля… Жукова… Панина… Панин – он в самом начале пути, тут я еще почти ничего не добился… А Нарышкин? Разве он вышел на дорогу?.. Я видел Петьку… Репина… За Репина я уже почти спокоен. Он теперь человек. Скоро сюда приедет его отец. Как-то они встретятся, как решат? Я видел всех. Маленьких и больших. Шумных и тихих. Мне всегда казалось, что только у меня есть ключ от этих жизней, что без меня они завянут. Мне было необходимо так думать. Но теперь я знал, что это не так. И это было хорошо. Как бы я посмотрел в глаза Антону Семеновичу, если бы после меня здесь все рассыпалось и развалилось? Он сказал бы мне: «Не по тебе тебя судят, а по твоим делам, по твоим людям».
Когда после Галиной болезни я вернулся к ребятам, я понял: дом в Березовой может жить без меня. Здесь есть учительский коллектив и коллектив детей, и этот двойной коллектив живет. Все они старались, чтоб я чувствовал: без меня нельзя. Но я видел: можно.
Я взглянул на часы – было уже двенадцать.
Вот сейчас пойду по спальням и посмотрю на них, на спящих. А завтра утром прощусь и уеду. Утром, на пороге трезвого дня, полного дел и забот, прощаться легче и проще – утро вечера мудренее.
Я вышел на крыльцо. По земле вдоль дома лежали светлые квадраты. Поднял глаза – все окна освещены. Почему? Ребята давно уже спят, откуда же свет? Одним духом я взбежал по лестнице и открыл дверь первой спальни.
Все кровати были застланы, как днем, и возле них, точно на утренней поверке, стояли ребята. Что-то сжало мне горло. Я остановился, оглядел их и медленно пошел дальше. В других спальнях было то же – нераскрытые постели, безупречный порядок и ребята, стоящие навытяжку, молча, обращенные ко мне серьезные лица, глубокие, внимательные глаза. Они знали, они были убеждены, что я не уеду, не поглядев на них напоследок. Они знали, что я захочу увидеть каждого, и никто не лег.