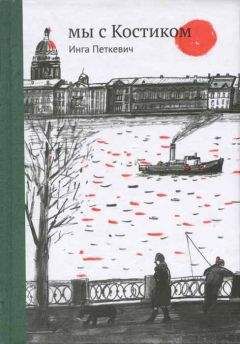Я вскарабкался к ней на крышу. Она покосилась на меня, зевнула и, положив голову на лапы, закрыла глаза.
Я присел рядом, достал из портфеля свой завтрак — бутерброд с колбасой и яблоко. Собака повела носом, но попрошайничать не стала. Я предложил ей бутерброд, она открыла глаза, оглядела меня с ног до головы и только тогда взяла…
Взяла вежливо, безразлично и сразу же опять закрыла глаза. Я даже подумал, что она его не съела, а спрятала за щёку, чтобы потом сложить где-нибудь, как мышей. Но проверить этого я не мог. Я сидел и жевал яблоко — собаки ведь не едят яблок.
Перед нами была тёмная кирпичная стена. В ярко освещённых непрозрачных окнах бани одевались и раздевались тени людей, из открытых форточек валил белый пар.
Собака зевала, и я тоже начал зевать и опять подумал про печку. Что вот если бы у меня была печка, то собаке она конечно бы понравилась, и тогда бы она пошла ко мне жить. А так у меня ничего нет, и ей со мной скучно и неинтересно. Но она не убегала, и через некоторое время я решил её погладить. Она вздрогнула и чуть поморщилась. Я потрепал её за ухо, и она лизнула меня чёрным и горячим языком. Тогда я снял ремень и привязал к её ошейнику.
Сначала мы просто ходили по улицам. Это очень здорово — ходить со своей собакой по улицам. Идёшь себе, как ни в чём не бывало, а все на тебя глазеют, и всем завидно. Заходи в любой двор, в любой сквер — никто не посмеет тебя тронуть…
— Вот это собака! — говорят мальчишки.
— А это что ещё за собака? — хихикают девчонки.
— Ну и страшилище, — ворчит дворник. — Бывает же на свете.
А ты проходишь мимо, и нет тебе до них никакого дела. Ты — с собакой! Только подойди, только тронь, только попробуй… Да моя собака с тобой знаешь что сделает!.. И никто не подходит, всем известно, что собака ради своего хозяина способна на всё.
Я бы сколько угодно ходил со своей собакой по улицам!
Но вот когда мы проходили мимо булочной, оттуда вдруг выскочила совсем маленькая девчонка.
— Ой, мамочка! — завизжала она. — Смотри, смотри нашего Гудериана ведут!
Собака рванулась к девчонке, я вцепился в поводок. Но женщина, что вышла из магазина, почему-то вдруг испугалась. Она схватила девчонку в охапку и вместе с ней быстро исчезла за углом.
Эта встреча очень меня напугала. Но зато теперь я знал, что собаку зовут Гудериан и что её хозяева почему-то от неё отказываются.
А на дворе — ну и ну! Все уже вернулись из школы и веселятся себе вовсю. Ромка стоит на детской горке, широко расставив свои длинные ноги, и остальные ложатся на живот и проезжают, как в ворота.
Но вот заметили нас и сразу же забыли о Ромке, столпились вокруг. Галдят, толкаются.
— Дай подержать, ну дай подержать! — пристаёт Терапевт.
— Отойди от моей собаки!
— Ну дай подержать!
— А ты давал мне ежа, помнишь, у тебя был?
— Ищейка, породистее овчарки…
— Это не овчарка, это — шпиц.
— Сам ты шпиц!
— Лайка породистее ищейки…
— Говорят тебе, это не ищейка, это — крысолов, вон у неё и мышь в зубах.
И действительно, вытаскивает у неё изо рта мышь. А я и не знал, что она всё время с мышью ходила…
— Бедненькая, бедненькая, — и Светланка отбирает у собаки мышь. Эту Светланку хлебом не корми, но дай кого-нибудь пожалеть.
— Гудериан[3] — это немецкий танк.
— Не танк, а самолёт.
— Не твою собаку так зовут, и не суйся!
— Давай меняться: я тебе пистолет, а ты мне собаку.
— Ну, сравнил!
— Да мне такая и не нужна, у меня лучше будет. Да моя собака твою за пояс заткнёт…
— Вот когда будет, тогда и посмотрим!
Галдят — ничего не разберёшь. Собаку совсем затискали и меня оттеснили. И только Ромка сидит себе под своим грибком и вышивает.
Попробовал бы я вышивать, или Терапевт, или кто угодно, что бы поднялось! И только Ромке всё можно. Он, с тех пор как вышивать начал, даже ещё заметнее стал. Говорит, что это лучший способ волю закалять. Ну и пусть закаляет, а самому небось завидно! Тоже ведь о собаке мечтает…
Но тут во двор вышел Жёлудь. Он постоял, поглядел в небо и не спеша направился к нам. Я насторожился. Этого Жёлудя я давно подозреваю. Всем известно, что он настоящий вор. Машины и то крадёт. А у меня в начале года новый портфель пропал.
— Собака, — и Жёлудь треплет Гудериана за ухо.
— Собака, — говорю я и пристально смотрю на него, но он только позёвывает.
— Лохматая, — говорит. — Наверное, блохи есть. Блох вывести, шерсть отстричь, а из шерсти шапку связать. Моя сестра недавно из шотландской овчарки такую шапку связала, что боже мой!
— То из шотландской, — говорю я. — Из шотландских только шапки и вязать. В Англии они вместо ковриков. Сидят там у каминов, а в ногах шотландская овчарка вместо коврика.
Жёлудь засмеялся.
— А это не то, — продолжал я. — Это полицейская собака, ищейка. Положим, ты что-нибудь украл…
Я быстро посмотрел на Жёлудя, тот поморщился.
— Да не брал я твоего портфеля, — произнёс он. — Опять ты за своё…
Я так и подпрыгнул.
— А кто говорит, что брал?
— Сам и говоришь. Полгода только это и слышу. То про знакомого милиционера рассказывал, а теперь собака… За дурака считаешь? Смотри, сам в дураках не останься…
И он шмыгнул носом и не спеша направился на задний двор. Он там всегда торчит, там машины чинят, вот он и торчит. На него косятся, а он всё равно торчит.
И вдруг гляжу… а где же собака? Собаки и след простыл. Туда, сюда… А они мою собаку уже в санки впрягают. Намотали ей на шею верёвку, а той хоть бы что. И про хозяина забыла. Прыгает между ними, будто и не я её хозяин.
Подлетел я к ним, верёвку отмотал, санки их прочь отшвырнул.
— Отойдите, — говорю, — от моей собаки! Это вам не болонка какая-нибудь, замусолили совсем.
Забрал собаку и прочь со двора повёл. Собака всё время оглядывалась.
И вот мы опять на крыше нашего сарая. За матовыми окнами моются люди, звенят тазы, из окон валит пар. А нам холодно, сыро и есть хочется… А сидеть ещё долго, пока на дворе никого не будет… И в школу не пошёл, а дома ещё неизвестно что…
Собака уже несколько раз пыталась улизнуть, но я не отпускал её. Это очень противно, если твоя собака тебя не признаёт и тебя с ней связывает только верёвка. Вот только что с ребятами и скакала, и лаяла, а теперь зевает… Сколько можно зевать! Совсем зевотой заразила. Сидим зеваем вдвоём… Скучно, холодно и противно.
Хорошо быть снегом, или деревом, или небом… И птицей тоже хорошо…
Углём не хочу, и домом не интересно…
Автобусом, или трамваем — ничего. Только если быть машиной, то лучше всего самолёт…
Трактором скучно, хоть он и полезный, полезнее танка, но танком зато интереснее…
Ракетой мне всё равно не стать… Но вот пароходом могу… Только он всё равно неживой…
В воде лучше всего быть рыбой. Не килькой, конечно, но и китом — тоже слишком…
Дельфином — хорошо. Только зачем они разговаривают? Ни за что бы на их месте разговаривать не стал! Притворился бы глухонемым…
Слепым страшно, но зато разрешают иметь собаку…
Собака-поводырь…
Я стащил собаку с крыши и закрыл глаза…
Сначала ничего не получалось: она всё время тянула меня к углю, но потом мы выбрались на улицу — и всё наладилось. Собака натягивала поводок, и я шёл за ней с закрытыми глазами. Вначале я ещё немного подсматривал, но потом ходил уже совсем честно, и даже кто-то сунул мне две конфеты, по вкусу — мармеладины.
Хорошо быть слепым, но быстро надоедает. Тебя-то всё равно видят, только ты не видишь…
Самое лучшее быть невидимкой!
Домой мы вернулись поздно. Не хотелось нам возвращаться домой.
На дворе уже никого не было. Мы долго сидели на скамейке и смотрели на наши освещённые окна и думали, что бы такое придумать. Мы приготовили целую историю.
Гудериан остался за сундуком в коридоре, а я вошёл в комнату.
Мама и Костик сидели за столом. На столе стояли чашки, но чай они не пили — просто сидели и поджидали меня. Костик прикрывался газетой.
Максимовны за столом не было. Максимовна обижалась. Она сидела на безногом стуле, который стоял в углу, между стеной и шкафом, и на котором никто никогда не сидел. Она садилась на этот безногий стул, когда объявляла холодную войну. Все упрашивали её сойти с него, просили прощения… Интересно, что бы она стала делать, если бы этот стул починили или выкинули?
По всему было понятно, что они уже про всё знают.
— Полюбуйся, — сказала мама, — полюбуйся на дело своих рук.
Она указала на Максимовну. Я посмотрел. Та сидела, как статуя. У неё даже глаза не моргали.
— Скажи ему! — мама отобрала у Костика газету.
Костик задумчиво поглядел в потолок.