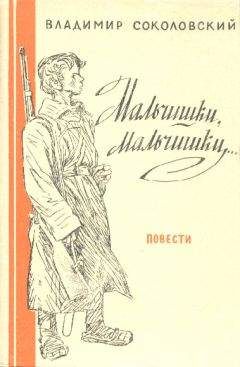плотвица кинулась к нему и, едва коснувшись, метнулась в сторону, словно укололась или обожглась. Возле самого дна к кусочку подскочило еще несколько плотвиц поменьше и тоже не притронулись. Наскоро отломил Лешка еще кусочек, бросил — опять плотвицы не притронулись к нему.
Еще ничего не понимая, Лешка стал лихорадочно щипать хлебный комок и беспорядочно бросать куски в прогалину. Минут через пять дно ее было густо усеяно хлебными крошками, а плотвицы ушли. В отчаянии размахнулся Лешка и швырнул оставшийся хлеб на середину реки. С громким всплеском упал он в воду, подняв маленький столбик брызг. Нехотя покатились по сонной еще воде круги и угасли.
До самого вечера просидел на берегу Лешка. Но плотвицы в прогалине так и не появились.
Это верно говорят, что утро вечера мудренее, но если вечером возникла тревога, то к утру она не угаснет, а чуть свет поднимет с кровати. В понедельник Толя пришел в школу первым. Длинные гулкие коридоры еще пустовали, и только ворчливая нянечка тетя Даша ходила по первому этажу с большой мокрой тряпкой и протирала белые подоконники.
Толя выждал, пока тетя Даша пройдет к дальнему окну, в глубине коридора, и бесшумно проскользнул на лестницу. Взбежал на второй этаж и прислушался.
Кругом было тихо-тихо. Коридор, освещенный желтыми лучами утреннего солнца, выглядел празднично. Толя невольно залюбовался игрой света. Он любил рисовать, после уроков вот уже третий год ходил на занятия в художественную школу и, по словам учительницы рисования, был «способным человеком».
Толя взял в классе стул, поставил к окну, на подоконник положил портфель, на него — голову. Он встречал глазами каждый троллейбус, выплывавший из-за угла, провожал до остановки и пристально всматривался в пассажиров. Сначала они шли стайкой, а шагов через сорок растекались в разные стороны.
Наташу Толя узнавал сразу. Отсюда, из окна школы, лица, одежда не различались, но по каким-то, самому непонятным, признакам он понимал — это она. Недавно Толя прочитал в журнале «Наука и жизнь», что человеческий мозг излучает радиоволны, и теперь думал: «Может, я принимаю их, потому и узнаю Наташу, когда ее не вижу?..»
В субботу она в школу не пришла. На большой перемене Толя добежал до автомата, волнуясь, набрал Наташин номер, но к телефону подошла бабушка. Она сказала, что у Наташи повысилась температура, всю ночь болело горло, а сейчас ей полегчало и она спит.
За воскресенье Толя измучился. Он включал телевизор и через минуту выключал, выходил на улицу и тут же возвращался, но сидеть дома было еще тяжелее. Так устроен мир, что свою боль человек старается не замечать, а страдания близкого человека, пусть и небольшие, вырастают в его глазах в трагедию. Толя терялся в догадках: как помочь Наташе? К бессилию примешивалось чувство вины, и он ругал себя за то, что в пятницу взял Наташу на этюды за город. День был ветреный, по-осеннему студеный. Они с трудом втиснулись в переполненный автобус. Две старушки всю дорогу ворчали на Толю, что вот, мол, надоело молодежи носить «портфеля», они теперь деревянные чемоданы таскают, а от них людям — одно неудобство: все бока промяли.
Толя заговорщицки перемигивался с Наташей и старался вывернуть желтый этюдник в другую сторону, но в автобусе было тесно, он локтем пошевелить не мог.
Они сошли на остановке «Сосновая». Обычно ребята из художественной школы проезжали дальше, до пруда. Там они делали наброски деревянного мостика, пасущихся лошадей, рыболовов. А Толя уже второй год пытался нарисовать поляну, окруженную соснами, похожими на свечи. От яркой их зелени воздух тоже был зеленоватым, а когда лучи солнца прорывались сквозь белые облака и высвечивали самый край поляны, воздух становился почти осязаемым, приобретал оттенки от тепло-золотого до светло-зеленого.
Толя сделал двадцать три рисунка, но все они были непохожи на ту волшебную картину, которую в доли секунды создавала природа. Он старательно вырисовывал травинки, веточки, капли росы. И с досадой откладывал рисунок в сторону. «Рисунок — это не копия, — часто говорил на уроках акварели старый художник Добужский. — Даже точно переданный свет — это еще не все. Художник долго ищет пейзаж не потому, что красивых мест мало, а потому, что не каждое место соответствует тому настроению, тем мыслям, которые им владеют. И потому с холодным сердцем лучше не браться за кисть. Получаются лишь жалкие копии природы, настоящие картины создает Любовь…»
Толе казалось, что у него в душе уже звучит та многоцветная музыка света, которую он слышал, видел, и было непонятно, почему рисунки получаются бледными, неживыми. И в эту свою поездку, как и в те двадцать три, Толя надеялся на удачу.
— Я тебе помогу. Ты знаешь, я хоть рисовать и не умею, но все вижу, — тоже вдохновленная, тоже захваченная творческим порывом, говорила Наташа.
На остановке «Сосновая», уставшие от духоты и тряски, они немного отдышались и по утрамбованному до асфальтовой твердости проселку пошли к сосновой роще. Едва они вступили на лесную тропинку, их окутала тишина; забылись усталость, пыльный город, душный, тесный автобус.
Толя шел ходко и смотрел прямо перед собой; если Наташа о чем-то спрашивала, отвечал нехотя, односложно. Наташа сначала немного обиделась, а потом поняла: человек настраивается на серьезную работу.
Поляна открылась внезапно, большая, окруженная бронзовой стеной сосен. И казалось странным, что тут, почти в самой глубине рощи, до сих пор не выросло ни одного деревца, словно на это место был наложен волшебный запрет, а недавно его сняли — и по всей поляне островками зазеленели сосенки-невелички.
— Она… — тихо сказал Толя. — Над ней даже в самый солнечный день висит дымка, а в пасмурные дни туман светится, словно он подсвечен снизу крохотными прожекторами.
Толя снял с плеча складной мольберт, приготовил краски, укрепил на этюднике чистый лист бумаги и замер; его взгляд то устремлялся к дальнему краю поляны, подернутому голубоватой дымкой, то останавливался на сосенках-невеличках, то скользил по ближней кромке поляны.
Вскоре Наташе это наскучило. Она пошла между сосенок, остановилась, издалека посмотрела на Толю. Тот все так же неподвижно стоял перед чистым листом бумаги. Наташа помахала ему рукой. Толя смотрел в ее сторону, но не ответил.
Он испытывал то радостное полузабвение, когда весь мир предстает красочным, звучащим: шуршание ветра в ветвях сосен было светло-коричневым, а пожелтевшая листва напоминала печальный голос скрипки. И Наташа, он ее не видел, а чувствовал, наполняла