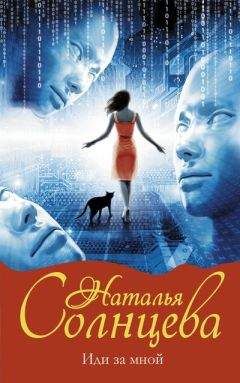Перед отправкой в солдаты Шатров приходил к Егоркиному отцу прощаться. Отец сказал:
— Пиши письма.
Шатров махнул рукой.
— Эх, Тимофей Иванович! До писем ли мне…
Хотя он и ответил так, а два письма все же прислал. В первом письме он рассказывал, как их провожали из города на позицию: «Одели и обули во все новенькое, играла духовая музыка, кричали «ура», барины и барыньки дарили на прощанье цветы, конфеты и папиросы. И дело теперь за нами. Думаю, и все так думают, что мы с этими супостатами-немцами разделаемся живо. Против нашего русского духа ни один дух не выдюжит».
Прочитав письмо, отец заметил: «Ишь ты, пободрел» — и покачал головой.
Во втором письме — уже с позиции — дяденька Шатров сообщил, что кругом текут реки крови, что даже бесчувственная земля и та выдюжить не может, а страшится и плачет: «…приложишь к ней ухо, а она — у! у! у! Но нам бояться не велят, а отдают команду — «За веру, царя и отечество!» — и мы рвемся вперед».
Встречая воинские эшелоны у окошечка, Егорка вспоминал эти письма и думал: «Пусть земля плачет и реки крови текут, пусть у немцев орудий больше, все равно победим мы, потому что наши солдаты, особенно донские казаки, очень сильные, смелые и ловкие. Вон Кузьма Крючков! Один семь немцев на пику подцепил. Попробуй одолей нашинских!»
С лихим казаком Кузьмой Крючковым Егорка познакомился минувшим летом. Дело было так. Егорка, его дружок Гришка Ельцов, Нюська и Володька Сопатый искали вдоль линии всякие интересные штуки: папиросные колобки, баночки, цветные бумажки… Больше всех в этот день «везло» Володьке Сопатому. Не успели ребята отойти от стрелочной будки и за версту, как в его карманах уже находились: большая из толстого картона коробка, на которой была нарисована дымящаяся папироса, железная кругленькая пахучая баночка и розовая хрустящая бумажка. Нюське тоже посчастливилось: она держала две блескучие банки из-под консервов. Не мог обижаться на судьбу и Гришка: он нашел под откосом ремень. Верно, ремень был не целый, большая половина его валялась где-то в другом месте, но зато пряжка уцелела…
— Приду домой, пришью к этому ремню свой старый ремешок — и залюбуешься! — мечтал вслух Гришка.
Все нашли что-нибудь, и только одному Егорке ничего на глаза не попадалось. Он был здорово расстроен такой неудачей и хотел было повернуться и уйти домой, как вдруг увидел далеко от линии, в кювете, какую-то картинку. Заметил ее и Володька.
_ — Чур моя! Чур моя! — вскрикнули ребята и пустились к находке.
Егорка подбежал первым и задрожал от радости — около комка глины лежала разноцветная, совсем новенькая папиросная коробка. Такой коробки Егорка никогда не встречал. На ней очень ярко и выпукло был изображен вздыбившийся конь, а на коне — бравый чубатый казак. Казак держал в руке пику, на которой корчились проткнутые насквозь маленькие человечки. «Кузьма Крючков!» — вспомнил Егорка рассказы взрослых о геройском казаке, протыкавшем пикой сразу несколько немцев. Да! Это был он — Кузьма Крючков.
Егорка цапнул коробочку, но тут с криком — «Моя! Я первый увидел. Моя!» — на него навалился Володька.
— Не отдам, не отдам, — захрипел прижатый к земле Егорка.
Неизвестно, кто победил бы, если бы в драку не вступили Гришка и Нюська. Обхватив Володьку сзади, Гришка сказал:
— Отпусти Егорку! Он первый схватился за коробочку.
Володька не послушался. Он продолжал сидеть на Егорке верхом, стараясь просунуть свои руки под его живот, где лежала коробочка. В другое время Егорка показал бы этому Сопатому, как сидеть на нем верхом, но сейчас нельзя было даже поворачиваться: приподнимись — и «Кузьма Крючков» мигом исчезнет. Гришка хотя и мешал Володьке, но в решительную схватку не вступал.
Барахтались они до тех пор, пока не подбежала Нюська: она была на той стороне линии и по крикам догадалась, что ребята заспорили. Узнав от Гришки, из-за чего происходит свалка, она подскочила к ребятам и приказала:
— Володька! Слезь с Егорки!
— А ты не вмешивайся, курносая! — крикнул Володька.
Нюська поставила на землю консервные банки и строго спросила:
— Кто курносая?
— Ты кур…
Закончить Володьке не удалось, потому что Нюська, как коршун, метнулась к нему, вцепилась в волосы и так их рванула назад — «против шерстки», что Володька взвыл и мигом скатился с Егорки.
Так была спасена драгоценная находка.
Придя домой, Егорка хотел запрятать коробочку куда-нибудь подальше, но потом передумал — разве можно такого героя, как Кузьма Крючков, держать в каком-то темном углу? Герой должен красоваться на самом лучшем месте, на виду у всех. Конечно, на божницу к иконам его не поставишь — мать ни за что не допустит, чтобы боги нюхали табак, — а вот на подоконник маленького окошечка поместить можно. Там его видно хорошо, да и он будет следить за всем, что делается в избе и за окном.
Так Егорка и сделал. Обычно «Кузьма Крючков» смотрел в избу, когда же проходили поезда, Егорка поворачивал коробочку картинкой к окну, чтобы пассажиры и особенно солдаты видели геройского казака и набирались смелости.
Прикасаться к коробочке разрешалось только матери и отцу, но они почему-то никогда не интересовались ею. Только однажды отец дотронулся до нее, но уж лучше бы он не делал этого. Он как дотронулся? Подошел к окошечку, щелкнул пальцем по лбу Крючкова и сказал:
— Как дела, герой? Одним махом семь мух побивахом?
Егорка обиделся и попросил отца не трогать «Крючкова».
— А почему? — спросил отец.
— Он смелый и сильный. Когда я вырасту большой, тоже буду таким же, как он.
Отец подумал немножко и протянул:
— Да… Он сражальщик известный. Только тебе, сынок, учиться у него нечему.
— А почему?
— Да так…
* * *
Солдаты ехали шумно, с песнями и свистом. Чаще всего они пели:
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет.
И-эх! раз! И-эх, два!
Горе — не беда.
Канареечка жалобно поет.
Разносилась и такая песня:
Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать.
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять.
Егорка с удовольствием слушал, а вот дежурным по станции солдатские песни, свист и крики почему-то не нравились, и они, передав жезл машинисту, старались как можно быстрее уйти в свою дежурку. Егорка долгое время не понимал, почему они так торопятся, но потом все же узнал, в чем дело, — дежурные боялись яиц. Оказывается один раз солдаты пульнули в Федорчука двумя яйцами; одно угодило в Федорчуков нос.
— Зачем они так сделали? — спросил Егорка у отца.
— Злятся, — ответил отец.
— А почему злятся?
— Потому, что едут на смерть.
— Тогда зачем песни поют?
— Через силу поют.
Егорка не мог взять в толк, как это можно петь через силу. Вот он, например, если рассердится или обидит его кто, ни за что не запоет.
И еще он призадумался — как же ему теперь встречать и провожать воинские эшелоны. Убегать, как только вручишь жезл, — не годится, скажут: трус несчастный. Не двигаться — забросают яйцами. Думал он думал и придумал — пока проходит эшелон, не стоять на одном месте, а прыгать из стороны в сторону. Тогда никто не назовет трусом, и ни одно яйцо не попадет в тебя.
Но тут опять мешала мать:
— И чего ты, как бес, мельтешишь у окна? И чего тебе не сидится?..
Егорка не соглашался с матерью, что их разъезд — проклятое место. Разве плохо на Лагунке летом? Летом в любой день ходи и играй, где хочешь: в своей оградке, на лужайке, около станции, под погрузочной платформой, ну везде-везде. Надоест бегать на разъезде — собирай товарищей и отправляйся по линии или по тропинке далеко за семафор.
Зимой скучно — это верно: пол, нары да печка — вот и все раздолье. Но при чем тут местность, при чем лягушачьи болота? Ни при чем. Снег да мороз — вот истинные виновники невеселой жизни. Из-за них не только скучно, но и убыточно.
Мать как-то сердито говорила: «Штаны на тебе, как на огне горят, не успеваю починять. А все из-за того, что ты елозишь на печке».
Из-за этого снега да мороза не только штаны протрешь, но скоро и сам весь изотрешься.
Вот сегодня. Встал Егорка, как всегда, вместе со всеми ребятишками. Отца дома уже не было — ушел на дежурство, Феня заторопилась на улицу с коровой управляться и дрова таскать, а мать, поставив на стол миску со вчерашними щами и сказав — «садитесь», принялась растапливать печь. После еды Мишка, Ванька, Петька уселись на нары и стали играть, а Егорке мать велела качать зыбку.