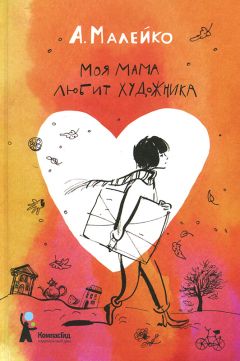— Вчера, — сказала Маша, — я видела, как его за плечо вел милиционер! На Некрасова, угол Чехова.
Все посмотрели на меня.
— Влип? — спросил Петька.
— Влип. Вел. За плечо, — сказал я и ушел. И даже не обернулся — так мне вдруг стало обидно.
…12.15 — Ушел с уроков.
12.25 — Пришел домой. Никого нет. Это хорошо.
12.25–12.26 — Поддал Повидле.
12.26–13.00 — Лежал на диване. Думал. Непроизводительно. Ну и шут с ним.
13.00–13.10 — Смотрел в зеркало. Личность как личность… Гвозди бы делать из этих людей… А я, наверно, не гвоздь. Стукни по мне посильнее — и скрючиваюсь. Дал еще раз Повидле. Он удивился. Вот ведь что — удивился, а не обиделся, а я чуть не заревел. Фучик бы не заплакал и вообще не так бы себя вел. Пойду-ка я к дяде Саше, летчику.
Я постучал. Между прочим, дядя Саша всегда узнавал, когда я стучу. Я его спросил однажды, как он узнает. Он объяснил: «По характеру. Настырно стучишь. Дядя Гриша, например, как морзянку отбивает. Ангелина Павловна как кошка скребется. Батька твой — уверенно: бух-бух. А ты — настырно: все равно, мол, войду».
— Входи, — сказал дядя Саша.
Я вошел и поздоровался.
— Привет, — сказал дядя Саша, — садись, возьми книжку. Я сейчас письмо кончу, а потом — к твоим услугам.
Он долго писал письмо. Я взял книжку, но не читал. Смотрел на него. Он писал и даже иногда губами шевелил, и морщился, и головой потряхивал, и ручку откладывал и лоб себе тер. Потом кончил писать. Встал, засунул руки в карманы, постоял, посмотрел на письмо, взял его и разорвал.
— Что скажешь? — спросил он.
— Зачем вы письмо разорвали? — спросил я.
Он ничего не ответил. Посвистел, посмотрел на меня как-то странно, открыл ящик стола, достал фотографию оттуда и сунул ее мне под нос.
— Красивая? — спросил он.
— Здорово! — сказал я.
И верно здорово. Не знаю уж, как сказать. Улыбается, а грустная. Волосы рукой поправляет, чтобы не разлетались, и смотрит прямо в глаза.
— Что ты понимаешь, — пробурчал дядя Саша.
— Понимаю, — сказал я.
— Ты же мне ничем не поможжешь…
— А может, и помогу, — сказал я.
— Да, — сказал он, — я знаю, у тебя такой характер — ты помогать любишь…
— Не знаю, — сказал я.
— Любишь. Это уж точно. Только ведь помогать по-разному можно. — Он задумался. — Надо быть… мужчиной.
Вот и у него чего-то стряслось. А не говорит. Наверно, и правильно, что не говорит. И я не стал ему ничего рассказывать. Только спросил:
— А что значит быть мужчиной?
Он засмеялся.
— Ну, наверно, не ныть, не трепаться, не совать нос куда не следует.
— Ага, — сказал я и пошел к двери.
— Слушай, — сказал он вдогонку, — ты все-таки зачем приходил?
— Так, навестить.
Я решительно пошел к Басовой. И решительно позвонил. Дверь мне открыла бабушка, и я вошел.
— Здравствуйте, — сказал я решительно. — Маша дома?
— О-о-о! — запела бабушка. — Наш юный рыцарь! Здравствуйте, здравствуйте, проходите, проходите, очень рады, очень рады, а Машенька еще не приходила из школы.
«Вот лопух», — подумал я про себя, и моя решительность куда-то испарилась.
В переднюю выглянул Машин отец.
— А-а-а! — сказал он. — Семен. Здравствуйте, Семен. Очень приятно, — и он протянул мне руку.
Я оказал, что и мне очень приятно.
— Ну, раз приятно, — сказал папа, — проходите. Маша скоро придет, а мы пока побеседуем.
— Да нет, спасибо, я в другой раз, — забормотал я.
— Нет, нет, мы вас не отпустим, — захлопотала бабушка, — такой редкий гость… Сейчас я угощу вас тортом и яблоками, а там и Машенька подойдет.
Я даже не заметил, как в одной руке у меня оказался кусок торта, а в другой огромное яблоко. Деться было некуда, и я давился то тортом, то яблоком, думая, как бы съесть все это поскорее, пока не пришла Машка. И, конечно, она пришла, когда я запихнул в рот последний кусок торта. А яблоко еще не успел доесть. Я, кажется, возненавижу скоро эти яблоки!
— А-а, Сенечка, привет, — сказала она очень ласково и как ни в чем не бывало.
— М-м-мбубет, — сказал я.
— Что с тобой? — испугалась она. — Зубы? Насморк?
Ох, провались ты, заноза, через все три этажа!
Я помотал головой.
— Ах, яблоко! — догадалась она. — Ну, какие же вы молодцы! — Она посмотрела на своих родичей. — Как вы догадались, что он оч-чень любит яблоки?
Я наконец проглотил это чертово яблоко. Зол я был до того, что коленки дрожали, но вместе с тем мне почему-то было и смешно. «Ну, ладно, — подумал я, — главное, не растеряться».
— Очень вкусное яблоко, — сказал я. — И торт очень вкусный. Спасибо. Хорошо, что ты пришла, Маша. Я, вообще-то, не к тебе зашел, а к Григорию Александровичу, но раз уж ты пришла — я тебе напомню — в 19.00 в кафе «Гном». — Я мельком глянул на нее: по-моему, у нее из глаз летели искры!
Я повернулся к ее папе.
— Григорий Александрович, — сказал я, — вы не можете уделить мне несколько минут?
— К-к-конечно, п-п-пожалуйста, — сказал Машин папа, — п-прошу, — и он показал на дверь своего кабинета.
Я, не оглядываясь, прошел в кабинет. Проходя, я услышал, как засмеялась бабушка и зашипело, как на сковородке. Это шипела М. Басова.
— Садитесь, — сказал Машин папа. — Чем могу служить?
А я и не знал чем.
— Да вы не стесняйтесь, Семен, — дружелюбно сказал Машин папа. — Выкладывайте.
И тут я придумал. Он ведь человек очень образованный, и почему бы мне не спросить его кое о чем.
— Вы все знаете, Григорий Александрович, — сказал я, — а я не очень. Я хочу вас спросить о… про некоторые слова.
— Сократ говорил, — сказал Григорий Александрович, — что я знаю твердо только то, что я ничего не знаю. Но если вы думаете, что я могу вам помочь…
— Думаю, думаю, — быстро сказал я и спросил, что такое эмоции.
Он опустил очки на нос и внимательно посмотрел на меня.
— Гм-м, — сказал он, — любопытно…
И начал потихоньку объяснять. А потом сам ужасно увлекся. Бегал по комнате, размахивал руками. В общем, прочитал мне целую лекцию.
Эмоции — это, оказывается, разные чувства. Только не запах там, вкус или цвет, а, например, горе, радость, злость, веселье, зависть и… любовь, например. А я-то думал, что «эмоции» — это из радиотехники что-нибудь.
И еще он сказал, что эти самые эмоции бывают положительные и отрицательные. К положительным надо стремиться, потому что они увеличивают срок жизни, а отрицательные, наоборот, укорачивают, и поэтому от них надо бегать, как черт от ладана. Злость, обида, страх и другое в этом роде — это отрицательные. Поэтому, если не будешь злиться, обижаться, бояться и так далее — проживешь сто лет или даже больше. Здорово интересно, но попробуй-ка! И потом, если человек не злится, не обижается, не ненавидит кого-нибудь или что-нибудь — то он, по-моему, просто жизнерадостный рахитик и толку от него никакого.
Я сказал об этом Машиному папе. Он засмеялся и сказал, что чувствами, то есть эмоциями, надо уметь управлять, ре-гу-ли-ро-вать их. Я сказал, ну а если, например, мне в ухо дали? Что же, надо улыбаться и сказать спасибо и второе ухо подставить? Он опять засмеялся и сказал, что все это зависит от кон-крет-ной си-ту-ации.
— Извините, пожалуйста, что я употребляю такие выражения, но в данном случае это означает: когда? где? зачем? почему?
— Понятно, — сказал я, хотя не очень понял, какая, например, разница, где тебе дали по уху — в подворотне или на лестнице?
Он сказал:
— Я рад, что вы поняли, но, может быть, у вас есть еще вопросы?
«Эх, была не была», — подумал я и спросил, кто такой Караваев или Каратаев.
— Этот вопрос прямо соприкасается с тем, что вы спросили насчет правого и левого уха, — воскликнул Машин папа. — А что, собственно, вам нужно знать про Каратаева?
— Да кто он был такой? — сказал я.
— Он был солдат, — сказал Машин папа. — Но не совсем обычный солдат.
— Герой? — спросил я.
— Н-не совсем, — сказал он. — С одной точки зрения… — он покрутил в воздухе рукой, — … а с другой точки зрения… Вы читали гениальный роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир»?
— Кино видел, — сказал я, — а читать не читал.
— Н-ну, кино… это не совсем… гм-мм… Видите ли, все это очень сложно, но в двух словах можно сказать так…
И тут он прочел мне лекцию про Каратаева.
Я понял только одно, что этот солдат из романа «Война и мир» и в самом деле был какой-то чудак. Он как раз и считал, что если тебе дали по одному уху — надо сразу сказать спасибо и подставить второе. Тогда того, кто тебе дал по уху, заест совесть, как это он такому доброму человеку съездил по уху, и он больше никогда никого не будет трогать. И если все будут так поступать, то на земле будет мир и справедливость.