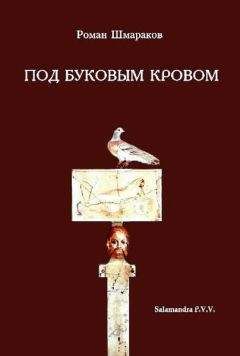– Ну, если небольшой, – говорю я.
– Спасибо. Прежде всего, это мир высокой социальной защищенности. Он изобилует музеями со льготными билетами, и его в разные концы пересекают путешествия со скидкой от профсоюза. В нем идет кино, делящееся на познавательное, про гражданскую войну с подпольным обкомом и образовательные диафильмы, но есть также – как печальное знаменье времени – американское кино про монстров, не дающее ничего ни уму, ни сердцу рядового кинозрителя. Досуговая сфера представлена также бросанием с балкона полиэтиленовых пакетов с водой, гипсовыми муляжами любительского футбольного матча, начинающими трансвеститами и картинами Шишкина, в эпических образах воссоздающими красоту и мощь русской природы, особенно лесной («В лесу графини Мордвиновой», 1891). Балконные забавы детей, хотя предосудительные, дают, однако, повод отметить, что они возможны лишь в мире, изобильно снабженном водой. По нему протекает, теряясь, как семиклассница на районном смотре самодеятельности, река в песчаных степях аравийской земли, вдалеке от нее ровным строем стоят пушистые снеговики, неохотно сдающие свои позиции к концу марта, когда работники жилкомхоза стекаются, как гонцы молодой весны, на профессиональное празднество; в лесных заводях, осененные меланхолическими лессировками Васнецова, гуси-лебеди плещут друг на друга холодной водой, оставив свое пернатое исподнее в прибрежных кустах, на благоусмотрение главного героя, а высоко над ними, в горах, нависают древние ледники с подтаявшим днищем, чреватые смертельной угрозой долинам. Следует упомянуть также и море, оно приливает и отливает, оставляя на обнаженном берегу привлекательную русалочку, с красивыми длинными ногами и сазаньей головой; в море ходит сейнер, чьи труды благословились небом, и ковчег, несущий на себе голубя для зондирования ситуации; на утлом челне в нем качается беззастенчивый рыбак, чьи руки устали врать, и незримо реет над всею этою громадною гладью, омкнутой мировым змеем, божественный Дух, провидя, храня и питая. И все это вместе взятое посильно воспроизводит в домашних условиях полутораведерный аквариум с подсветкой. Если коснуться культовой сферы, то она, кроме названного духа, представлена райским змеем, хором погибших душ, много обязанных указанному змею тем, что они составляют именно такой хор, а не какой-либо другой, и фресковой живописью, реставрация которой переживает временные трудности. Сфера науки представлена штангенциркулем, найти который представляется затруднительным, и теоремой Виета, которой, по мнению автора, суждено сыграть ключевую роль в установлении взаимосвязей с нечеловеческим разумом. Из этого можно сделать вывод, что успехи органической химии, а также учение о равномерном прямолинейном движении обошли автора стороной. Героико-патриотическая тематика репрезентирована брянскими партизанами, бесконечно идущими по снегам; впрочем, как мы отмечали выше, это мир, не испытывающий недостатка в воде. Криминальная сфера, кроме балконного досуга младших подростков, репрезентирована кровавыми пятнами на полу и двадцатью пятью изнасилованиями, а пенальная система – смертной казнью через повешение. Что касается еды, то в этом мире вычерпывают стерляжью голову половником из ухи, заедают ее клубничным вареньем, не гнушаясь отпечатками аистовых ног, едят скумбрию в темноте и шашлык на публичных гуляньях. Характерно, что мир еды основного текста и еды сравнений находятся в отношениях дополнительного распределения: меж тем как основной текст знает сосиску как предмет еды, окруженный густым полем культурных ассоциаций (ее едят, залитую яйцом, как посетители ресторанов, так и ролевики, ее используют в мантических практиках для вызова милиционеров на пенсии и ее школьные учителя предлагают сантехникам в тех ситуациях, в каких марсианам предлагается теорема Виета), мир сравнений живет, ничего о сосиске не зная и не нуждаясь в ее услугах. Что касается набора фауны, то он содержит труппу курских соловьев и бабочку с красивым глазком, как у картофеля «Невский», привольно порхающую над брошенной куколкой, сравнимой по бытовым неудобствам только с квартирой уплотненного заселения.
Он замолкает. И мне не хочется говорить.
Боже мой, какой прекрасный мир создал я. Какой богатый, дышащий и мерцающий мир. Могу ли я эмигрировать туда? Там же, помнится, есть пограничники, сверяющие противокозелок, – могу ли я обнять их натруженные стопы и попросить политического убежища? Я бы втерся к ним в доверие – о, я это умею, когда захочу, – я бы правил ими, как благосклонный герой… Или нет, я же создал их, я создал их всех, это мой дух реет над их рыбными водами – мой! мой! – могу ли я быть их богом? Уйти бы отсюда, хоть куда-нибудь, и я был бы, в конце концов, неплохим богом, я же все-таки тринадцать лет занимался преподавательской деятельностью, у меня есть навыки… Никто бы не жаловался. У них, могу поклясться, не возникало бы и мысли о богооправдании. Попадись им том Лейбница, они листали бы его с брезгливым непониманием, спрашивая: «О чем это он нам толкует?» А когда их невинная пастушка – там же была где-то невинная пастушка, я помню! – когда бы она подросла и собралась замуж за пастуха – там были пастухи, разламывавшие хлеб и пившие молоко, а солнце стояло над ними с таким властительным спокойством, в таком лазурном небе! – и они бы любили друг друга с детства, до того еще, как кто-то впервые при них произнес бы слово «любить», и ее, допустим, звали Хариклея, а его, например… ну, например, Теаген, чем не имя для пастуха? – и вот когда лодка из ее деревни отправилась бы в его деревню, изукрашенная безыскусными гирляндами из одуванчиков и цикория, переполненная селянами с праздничными, красными лицами, поющими свои селянские песни, – тут земля бы сотряслась, и я вышел бы огромной тенью из кургана, страшный, перемотанный простынями с синей надписью «Минздрав»…
– Простите, – аккуратно говорит Билли Бонс, – вы не могли бы объяснить происхождение последнего образа?
– Мог бы, – говорю я. – Это из автобиографического. Я был однажды в командировке. Точнее, я был там не однажды, я десять лет туда ездил… ну ладно. Это был поселок городского типа. Именно тогда у меня в моем уме зародился вопрос о принципах типизации. Что давало этому поселку тип городского? Силосная башня, с которой начиналась улица Космонавтов? Или другое что? Потом я остановился на мнении, что это была типизация на основе доминирующей страсти. Очень много воспоминаний, очень, я стараюсь сейчас, как могу, удерживаться, потому что если я начну вспоминать, это совсем уведет от темы, а и так уже люди предъявляют претензии, что непонятно вообще, о чем этот роман… Очень холодное общежитие. Всегда. Я там в мае месяце сидел, обнимая электрический самовар, только тем и спасался. С туалета сняли дверь, она стояла в коридоре, прислоненная к стене, с очень остроумной надписью: «Не работает». И вот там были простыни с синим узором из многократно повторяющегося слова «Минздрав». Оно испещряло простыню во всех направлениях и производило на свежего человека крайне тяжелое впечатление, намекая, что ему отсюда не выбраться. Я тогда написал стихи:
Как прокаженный Божьей властью,
Чья, тяжкой съеденная мастью,
До избежавшего мирка
Не докасается рука,
Чья человеческая слава
Причлась в пасущемся скоте, –
Так я ночую в наготе
На простынях с клеймом Минздрава!
– Хорошие стихи, – вежливо говорит он.
– Вам понравилось? А вот я еще такие тогда написал, тоже небольшие, но со смыслом: «Среди миров, весельем сирых…»
– Извините, я заставил вас отвлечься; пожалуйста, продолжайте. Вы говорили о пастушке.
– Ах да. Так вот, я покажусь из прибрежного кургана, с грозным ликом, каков я был, когда извлекал этот мир сравнений из первоначального смешения причин со следствиями, и изреку: «Вы веселитесь, беспамятные, и в вашем ликовании гибнет слава моей силы? Так не бывать тому! Требую от вас, чтобы деву эту, спешащую на брак свой Хариклею, вы принесли мне в жертву на этом кургане – только тогда вашим почтеньем я наслажуся вполне и своими грозными призраками дом ваш тревожить престану. Три дня сроку!». Вымолвив это, безжалостная моя тень со стенаньем скроется, откуда пришла. Плач погребальный наполнит их домы, вытеснив свадебный лик, и смерть усядется во главе стола, в красном углу, с общительной улыбкой глядя на родню жениха. Родители сражены горем, девица кричит, что она еще так молода, что ее красивое тело хочет жить, любить и пасти овец, срочно приехавший жених в новой фуражке с красным околышем кипит бессильным гневом, подбивая односельчан восстать против авторитета, – а они, конечно, кряхтят и отводят глаза, ибо я им дождь и солнце даю во благовременье, и без меня ни один волос не падает с их головы, а их там и так уже немного осталось; и потом, не у них же я невесту и дочь отнимаю, а у другого, так они и молчат. Это поведение, правду сказать, я лично считаю паскудством, но сейчас оценок не высказываю и просто излагаю факты. И вот, после всех тех перипетий, о которых каждый грамотный может прочесть в книгах, девицу молчаливым шествием ведут на проклятый курган, и старый бургомистр в брезентовом переднике заносит над ее запрокинутым белым горлом кухонный нож, но тут она говорит: «Погоди, дядя Авдей, дай напоследок слово молвить». Он отпускает, и прекрасная Хариклея, потирая покрасневшее горло, глядит с кургана на толпу односельчан. Слышно, как в соседнем селе по вечерним улицам бродит одинокая гармонь. «Сейчас, – негромко говорит Хариклея, и все содрогаются, – вы меня убьете. Возможно, вас это удивит, но я жду этого с нетерпением. До своих шестнадцати лет я жила, в компании овец, не думая о том, хорош ли этот мир или плох, потому, что не могла сказать «мир» и «я»: между нами не было границы, мои руки были его руками, а его фибры – моими фибрами. Но когда механизм этого мира высунулся и захотел моей крови, я счастлива, что умру прежде, чем свяжу себя обязательствами, которые смогут этому помешать. Надеюсь, что там, куда я попаду после смерти – ибо я верю, что моя душа создана для чего-то более долговременного, чем тот хоровод с нечесаными овцами и нетрезвыми механизаторами, в котором я успела проплясать, – действуют иные законы, менее унизительные как для кодификатора, так и для рядового исполнителя. А теперь, дядя Авдей, расправь передник, возьми свой нож, и надеюсь, твои руки не дрожат, потому что я все-таки не столь терпелива, чтобы умирать мучительно». И он занесет над нею нож, и вся деревня ахнет единым ахом. И тут я, как смерч, ударю в небо из кургана, отбросив дядю Авдея, и раскатисто скажу: «Неужели, неблагодарные, вы поверили, что я хочу вашей крови, – а особенно крови этой девочки? Не я ли берег ее сызмальства, как родную дочь? Не я ли спас ее, когда в детстве на нее из лесу вышел голодный волк и когда в прошлом году ее хотели выдать за вдовствующего комбайнера? Нет, милые! Мне просто хотелось видеть, что у вас внутри, и теперь, когда я довольно насмотрелся, я от всей души благословляю молодых, а вам объявляю, что вы достойно выдержали испытание и что следующие три дня объявляются нерабочими! Айда жениться!» И дядя Авдей, при паденье пристойно прикрывшийся передником, и Хариклея, с потерянным лицом, и Теаген, выломившийся наконец из амбара, куда его арестовали, чтоб не мешал жертвоприношению, и все селяне, с косами и граблями пришедшие глядеть, как будут резать гордость села, – все они застынут, не веря ушам, пока наконец кто-то не разрушит их молчание бессмысленным, но громким кличем радости, – и, шумно благословляя… Что? Что опять не так-то?