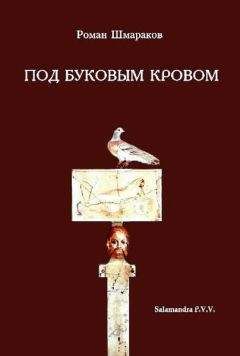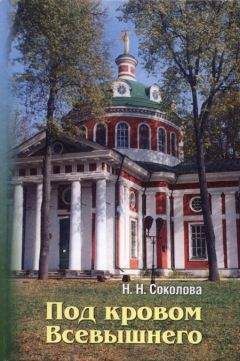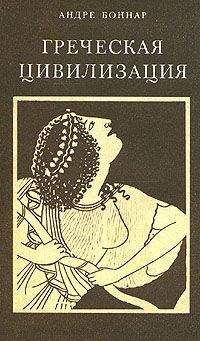После того как «Архелай», поставленный на сцене пиерийского Диона с невиданным до сих пор усердием и пышностью, завершился и всё — рукоплескания, одобрительные крики и сужденья в публике — свидетельствовало о благосклонности, с какою она приняла спектакль, а избранные от царя мужи, чье высокое положение и образованность пользовались общей известностью, наградили хорега и актеров первой наградой в состязании, совершив напоследок благодарное возлияние гению Еврипида, хорег и Сократ отправились в одну городскую корчму, расположенную на отшибе, где докучные беседы посторонних, любящих толковать с людьми известными, не могли бы им помешать. Сократ ожидал нескольких фессалийских знакомых, обещавших быть к самому празднеству, и, думая провести вечер за приятной беседой, они покамест не пили много и говорили о прошедшем спектакле; однако хорег, в радостном возбуждении, переживая все обстоятельства своей победы, был точно во хмелю и словоохотлив не в меру. Вспоминая, как был почтен Еврипид, он воскликнул, что лучшего вина не следует жалеть, чтобы выразить благодарность человеку, которому при его жизни все они были обязаны отрадой мудрого общения и еще после его смерти — а тому почти десять лет, как он умер, — счастливо пользуются уроками его вдохновения. Сократ заметил на это, что его всегда удивляло, что ту силу и охоту, какие Еврипид обращал на трагические произведения, которыми в Македонии справедливо гордятся, он не уделял комедии, видимо не любя и чуждаясь ее, так что ему кажется, нет ли здесь той односторонности души, которая обращает на себя неприязнь богов. Это возмутило хорега, и он возразил с горячностью, что свою любовь к Еврипиду, словно провидя подобные сомнения, боги свидетельствовали зримым для всех образом, о чем и Сократу довольно известно, и что заслуженно трагедия любима молодежью, всему предпочитающей доблесть и славу и всегда внимающей тому, что научает возвышенному. Видя, что хорег задет не на шутку, Сократ отвечал ему с серьезностию, что, несомненно, «Архелай» вещь безукоризненная и он почти уже знает ее наизусть, так что еще немного и, приведись ему попасть в плен или потерпеть кораблекрушение в чужих краях, — он сумеет добыть себе пропитание и почет, исполняя на память лучшие места и благодаря Еврипида как своего избавителя. Да и сам хорег, обязанный ему ежегодными победами, конечно, присоединился бы к этой благодарности. Речь Сократа имела тон примирительный: еще с недоверчивостию, ожидая от знаменитого собеседника той иронии, которую он так искусно умел затаить, потешаясь над друзьями, хорег все же согласился с ним, неохотно промолвив, что, конечно, куда отраднее было бы победить, будь в соревновании вторые и третьи участники, — но все-таки, по его мнению, лучше чувствовать себя обязанным справедливости царя, чем народной благосклонности, прихотливей которой, как Сократу известно, трудно что-либо сыскать. Хозяин корчмы из своего угла слушал их с почтительным вниманием. Сократ было заметил на это, что у него на родине был один знакомый меняла, который утверждал, что справедливость не всегда одно и то же, но разнится от случая к случаю: но хорег, с его непокладистым нравом, гнул одно, что ростовщиков у них не поощряют, гнушаясь их низменным занятием, обсуждать же распоряжения, происходящие от царя, он почел бы неприличием и неблагодарностью, которая, как Сократу известно, худший среди пороков. Впрочем самому Сократу, не связанному обязательствами, подобает думать как ему заблагорассудится.
Тут Сократ, улыбнувшись, заметил хорегу, что их беседа, которую, казалось бы, само место обязывает быть упрямой и неуступчивой, как осел на горной тропе, превратилась в одни обоюдные любезности, так что они с изумительным благодушием уступают друг другу во всех спорных вопросах, — не объяснил бы он, от чего это происходит? Хорег, как знаток в подобного рода вещах, не долго думая высказался, что это от музыки, нечувствительно влияющей на душу, и они обратились к нанятой ими флейтистке, которая на своей двойной флейте, действительно, играла мелодию на лидийский лад. Вид у девушки был спокойный и кроткий, и Сократ заметил, что, пожалуй, такая игра ей наиболее пристала; однако ж хорег, по роду занятий знавший в округе большинство людей, способных искусно играть, рассказал ему, что обыкновенно эта девушка, в самом деле, кротка на характер, но в вакхических хороводах, когда они скачут как лани по дебрям и когда Дионис, как говорится, поднимает в них пламя яркой сосны, она разительно переменяется, так что в ее упоении есть что-то поражающее и ужасное, и в то время, памятуя печальные рассказы о бедствиях, связанных с этими играми, лучше ее и ее подруг обходить стороной. Видя, однако ж, что Сократ собирается, остановив девушку, получше расспросить ее об этом, хорег сказал ему, что мало кто из них помнит потом бывшее, так захватывает их беспамятство, которое в самом деле выше человеческой природы и как бы причастно божественному. Тут содержатель корчмы, следивший за их беседою, счел возможным вмешаться и подробно рассказал, что ее отдали учиться флейте, потому что в детстве она была дурнушкой, а теперь учиться лире, упуская твердое ремесло, вроде бы поздновато: да и не прогневишь ли этим богов, которые, однажды поставив человека на место и как бы привыкнув к его служению, не радуются, когда человек бросает его и ищет другого. Но чтившего их боги и по смерти отмечают особым знаком, как отметили они великого Еврипида, когда в могилу его ударила молния. Сократ заметил, что видел его могилу, и ему кажется, что она расположена в очень красивом месте, на большой прогалине у дороги, под старым дубом. Хозяин прибавил к тому, что множество людей, приходящих из разных городов, желает приблизиться к ней, — но, как священное место, могила обнесена теперь оградою и соблюдается с величайшим тщанием.
Но тут, прервав их разговор, с шумом вторглась в корчму веселая компания фессалийских друзей Сократа, которые, видимо, вовсе не позаботились сохранить себе трезвости на длительную беседу. Завидев их кроткое времяпрепровождение за одним кувшином вина, пришедшие со смехом воскликнули, что верно говорят поэты, Пиерия блаженная страна, и чтит ее Эвий, учреждающий здесь свои таинства. Видя их легкомысленное настроение, Сократ, впрочем и сам с усмешкою на лице, предупредил их, чтобы в этой стране они судачили о богах поосторожнее — ведь это все равно что пересказывать сплетни о царе рядом с его троном — и когда будут на рынке сбывать свое прокисшее вино, пусть не клянутся бессмертными именами, а приберут что-нибудь безопасное. Как бы привлеченная его словами, над склонами Олимпа из густых лесов вышла луна, озарив божественную гору и ее непроходимые дебри своим таинственным сиянием. Кто-то из фессалийцев предложил, если Сократ не против и если все попросят у него разрешения, в особо торжественных случаях и при наиболее удачных сделках клясться его демоном, ведь это он выручал его во всех трудностях и так счастливо привел его сюда. Сократ начал было говорить, что демон всегда выручал его, когда он находился в областях, чуждых рассудительности, — но заметив, что хорег смотрит на него с недоумением, спросил, не обидел ли его чем, и тот ответил, что высокомерием и предубеждением кажется ему теперь говорить в таком духе о Македонии, уже давно вспоминающей времена варварской простоты как седую древность; Сократ же, смеясь, возразил ему, что под областью, чуждой рассудительности, он понимал отнюдь не Македонию, а, скажем, поэтическое творчество, о котором известно, что в нем важнее всего некое чудесное наитие, или попытки угадать будущее, которые выйдет из того или другого решения, — а мирная торговля, пусть даже это будет торговля фессалийцев, достаточно управляется обычным благоразумием, чтобы ей искать еще покровительства демона; к тому же, добавил Сократ, с улыбкою глядя на фессалийцев, его демон, видимо, хоть и божество, но низшего рода, и в близком соседстве с высшими богами он никнет и как бы смущается, а потому поэтическое творчество для него закрыто, если, конечно, не считать им ту причастность восторгу, которую переживаем мы, слушая произведения трагических поэтов и дифирамбы Пиндара. Услышав это, старший среди фессалийских купцов и самый рассудительный между них вымолвил, что чудно ему, как можно сторониться поэзии в стране, наиболее предназначенной для творчества на поприще Муз, — ведь, как говорят, здесь они родились и это место выбрали для своего пребывания, и совсем в недавнее время все они, бывающие в этих краях, видели живущими здесь и трагика Агатона, и Меланипида, и Зевксиса италийца. Но его степенная речь была прервана хозяином корчмы, который, сам будучи под хмельком, услышав знакомые имена, тут же ввернул, как они бывали у него и оставались довольны и что он не находит слов славить свое время, когда его страна знаменита гостеприимством, любовью к мудрости и строгим надзором за справедливостью, так что люди, знающие толк в образованности и празднествах, стекаются в Дион более чем эпироты в Эфиру Феспротийскую, где, как говорят, при входе в Аид стоит прорицалище мертвых, если позволительно такое сравнение. Это неожиданное замечание показалось всем слишком метким для корчмы, точно подаренным корчемнику, по его благочестию, кем-то из близких богов, и вызвало спор, в каком смысле можно сравнить поэзию с царством мертвых: ведь вдохновение, заметили фессалийцы, что в оракулах, что в поэтах, — одно и то же. Хорег, подумавши, важно присовокупил, что сами законы Аида, где душа пребывает в чистоте, питаясь божественным в меру своего разумения, суть то же, что законы поэзии и всякого восторга: но хозяин, опять ввязавшись в беседу, добавил, что не только состязаться, но и жить поэты, прославленные среди современников, остаются здесь навеки, а на родине у них, как бы в порицание государству, которому ревность не дала достойно почтить человека, любезного богам, остается пустая гробница. Не считаешь же ты, спросил Сократ, что любезен богам всякий, кто умел угодить публике? Нет, отвечал за хозяина вдохновленный спором хорег, — но кто умел жить в подлинной добродетели, тому уделом любовь богов и бессмертие; а первое умение, необходимое человеку добродетельному, — достойно управлять государством и домом, и таковое благоразумие самому Сократу, без сомнения, не покажется мнимым.