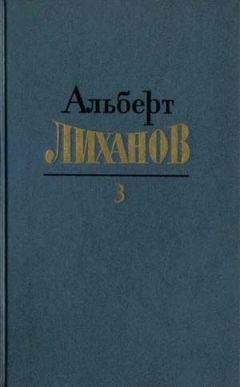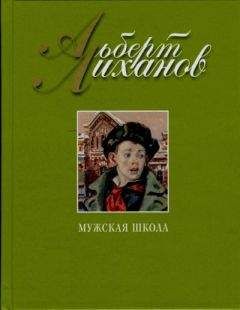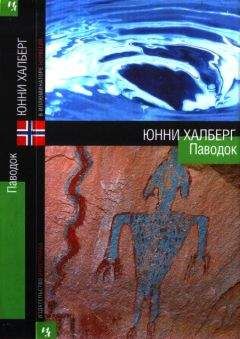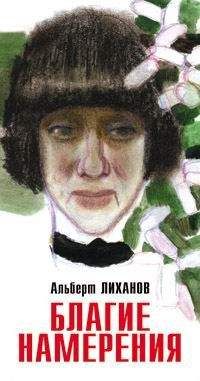На Ирине меня заклинило: дома я устроила Александру истерику, забыв про пугливую Алю, навеки больную свою дочь, поясняла ему, не выбирая выражений, кем может оказаться эта девица, но чем громче я говорила, тем отчетливей понимала: сила на стороне Ирины, и все будет так, как захочет она. Я ощутила это враз, женским предчувствием, спасти меня могла лишь ее ветреность: вся надежда на то, что мой хрупкий Сашка ненадолго привлек ее внимание — вон сколько вокруг молодцов гусарского телосложения — и Мальвина с голубыми волосами отвяжется от сына.
Но меня заколодило на Ирине, а ее заклинило на мне. Я почувствовала: она приняла мой вызов. Сопротивление материала вызывает к этому материалу повышенный интерес. Ребенок хочет добиться того, что у него, отнимают. Вся разница в том, что Ирина не была ребенком. В борьбе двух кошек за клубок ниток выигрывает молодая. Саша оказался клубком.
Любил ли он ее? Нет, сравнение с клубком неправомерно: конечно, любил. Только он с равной силой мог полюбить любую другую, я уверена в этом. Ах, какая я дура была, ведь мне следовало незаметно, деликатно, ни на йоту не нарушая правил порядочности и морали, подвести Сашку за руку, как ребенка, к хорошей девочке из моих закулисных любимиц — сколько их было, добрых, милых, умных, ставших потом любимыми и любящими, но я прозевала, прохлопала ушами — возникла Ирина, приметила мое неудовольствие, вступила в борьбу и выиграла ее, отняв у меня Сашу.
В конце второго курса он привел ее за кулисы, все лето я переубеждала сына, а на третьем, поздней осенью, они поженились.
Теперь-то я понимаю, как нерасчетливо она ошиблась, какую непростительную роскошь позволила себе, вступив в борьбу с какой-то неимущей библиотекаршей за бесхарактерного парня. Ирина чувствовала себя победительницей, я считала себя побежденной, но победа обернулась поражением, а ее крах не сделал меня победившей. Иринина амбиция обошлась ей вон каким крюком по жизненной дорожке — в полтора десятилетия!
Но оставим ее. Одержав надо мной победу, приняв из моих рук свадебные гвоздики, кукла с пепельными волосами потеряла ко мне всякий интерес.
Мы жили все вместе в маленькой квартирке — одна комната молодоженов, другая наша с Алей, и через неделю после свадьбы куколка увидела, что такое припадок эпилепсии — во всей его жуткой красе. Моя Аля явилась на свет с родовой травмой, ничего не говорила, только мычала, да еще судьба добавила эту болезнь. На сундуке в нашей комнате часто ночевала Мария, Алина нянька, санитарка, медсестра — все сразу, и Ирина крепко задумалась, вляпавшись в удобства похуже общежитских. Во всей семейке настоящей тягловой лошадью была одна я, но какое из меня тягло — сто рублей! картошечка, капустка, редко котлеты и интеллигентская опрятность бедной обстановки, граничившей с нищетой.
Ирина приехала из районного городка, отец ее попивал, заведуя бытовым комбинатом, мать когда-то была хорошей портнихой, теперь сидела на пенсии, так что помогали они дочке скудновато, вот только мать обшивала Ирину с головы до пят. При ограниченных средствах Ирина владела по меньшей мере дюжиной платьев, и их число неизменно прибавлялось. Позже я догадалась, что и это было продуманной подробностью.
Итак, Ирина задумалась — в ту пору она утратила интерес к гардеробу, была тиха, приветлива, терпима, даже жалела Алечку, и та благодарно мычала ей в ответ, слюнявя подбородок, — почти ровесница Ирине, ровесница, лишенная сознания.
Эта ласковость к Але была, пожалуй, единственным искренним чувством моей невестки. Аля ничего не могла ей дать, она не была выгодной ни с какой стороны, и все же Ирина дружила с ней, если мимолетные ласки касание рукой головы, поцелуй в лоб, помощь, когда та одевается, — можно назвать дружбой.
Я уж потом, много лет спустя, подумала, что все зависит от окружающих обстоятельств, и даже самый корыстный и расчетливый человек становится нормальным — бескорыстным и нерасчетливым, — если он сталкивается с кем-то, из кого нельзя извлечь выгоду. Вот, например, с больным. Вся система корыстолюбца отказывает, когда он встретится с неразумным, кого не надо объезжать по кривой, стараться обхитрить, замаслить — все бессмысленно, и когда рухнут надстройки, наверное, еще и возведенные-то с трудом и усилиями, остается просто человек. Его жалость, его сострадание чувства, с которыми он рожден на белый свет.
Странная мысль: может, надо лечить этих здоровых хитроумцев обществом больных, лишенных здравого сознания?
Итак, Ирина притихла. Впрочем, я перебираю, даже наговариваю на нее. Что я знала о ней тогда? Целуется с мальчишками в аудиториях? Так сделаем существенную поправку: целовалась. До встречи с Сашей. Победила меня? Да и пусть, если у них есть чувство.
Если есть. Об эту мысль я всегда больно ударялась. Материнское сердце уступчиво и может поверить любой подделке, лишь бы ребенку было хорошо, Но дело в том, что мое сердце было не вполне материнским. Не значит холодней, нет, просто в нем жила еще и рассудочность.
Неужели она любит его, спрашивала я себя без конца. Дай-то бог, дай-то.
И все же сомневалась, сомневалась.
Она — куколка, Саша — ниже ее, сухощав, правда, красив, лицо обманчиво мужественное, внешне есть что-то общее с суперменами из американских фильмов, только вот в глазах мягкость и отсвет сердечного тепла. Но это лишь с виду он мужественный и сильный, на самом деле Саша добрый, бесхарактерный, слишком послушный.
Мне кажется порой, будто он что-то помнит или силится вспомнить, но если даже и не помнит, то чувствует бывшую, ушедшую в прошлое беду. Саша часто и глубоко задумывается, может просидеть, глядя в одну точку, час, а то и больше, и окликнешь его не раз, пока услышит, но, услышав, еще не сразу приходит в себя: моргает глазами, озирается, словно не понимает, где он и зачем тут оказался. Какой-то испуг постоянно присутствует на его лице.
Когда он был ребенком, ему часто доставалось от сверстников — у детей чувства более первобытные, животные, и задеть слабого, а не сильного — в природе первичных вещей. Сначала Саша плакал, боялся выходить на улицу, в средних классах как-то приспособился, и уже в десятом, с большим опозданием, я поняла, что он научился приноравливаться к сильным, соглашаться с ними всегда и во всем.
Я это глубоко переживала, затем успокоилась. В университете были иные, братские, нравы, в третьей комнате он числился гуманистом и добряком, и вовсе не потому, что я его мать. Но вот приспосабливаться не разучился.
Он прилип к Ирине, как настоящий теленок, начисто забыв обо мне. Привязчивость — доброе чувство, но только в том случае, если не ранит других. Привязчивость Саши ранила меня, но я молчала. Из комнаты молодых слышалось воркование, я перехватывала взгляды Ирины, уже не ликующие, а изнуренные, вполне естественно — ревновала и без конца думала о том, что привязанность к одному может обернуться предательством по отношению к другому, а после и к самому себе. Слишком привязчивые люди быстро надоедают.
Они были полной противоположностью друг другу. Саша учился на физическом, но по характеру оказался гуманитарием — уж я-то навидалась их! Неорганизованным, необязательным, ленивым, не выполняющим заданий к важным семинарам. Но ведь точные дисциплины не терпят провалов! К третьему курсу он захромал по всем предметам и едва, на троечку, да и то за счет материнского авторитета, наконец защитился, вызвав мой облегченный вздох.
Ирина училась на филологическом — испанский язык и литература, — но отличалась математическим складом ума и какой-то металлической логикой. Была отличницей, без конца читала книги на испанском, дважды за три года жизни под одной крышей со мной проштудировала в подлиннике "Дон Кихота", и мне казалось, великий роман помог ей до конца овладеть донкихотским характером Саши.
В ее учении был какой-то тракторный напор, мужская мощь и адово терпение. Теряя справедливость, я называла про себя ее упорство крестьянским, хотя к крестьянству Ирина не имела никакого отношения, и вместо того, чтобы радоваться успехам невестки, боялась их.
Великая вещь — бабья интуиция! Боялась я ее успехов, чувствовала, забьет она Сашку, забьет, как забивает крыльями сильная птица слабую, и тогда всему придет конец. Всему!
Кто бы знал мою молодость, кто бы знал, как достался мне Саша при больной-то Але!
После смерти Женечки, моей незабвенной, несчастливой, любимой сестрички, тут же свалился Саша. Я привела его из детского сада, вернувшись с похорон, он был весел, по крайней мере обычен, а к вечеру полыхал, как огонек, я меняла ему компрессы, хватала на руки маленькую Алю, слышала ее мычание и рыдала, рыдала, давясь своей бедой. Господи! За что такое! Я одна, с двумя детьми, Аля навеки больна, Женечка, как ты могла!..
Саше было три года, когда не стало Женечки, и он перенес странную, многодневную, без диагноза, лихорадку, будто, не в силах понять умом, пережил потерю всем своим существом. Я выходила его любовью и своим страданием и в бессонные ночи приняла главное решение: уехать из Москвы, обменять наши комнаты в коммуналке на любой угол в любом другом городе, все равно каком, лишь бы подальше. Соседки по коридору советовали расстаться с детьми, хотя бы уж с Алей-то, это не грех, разве можно, мол, назвать грехом разумный, праведный поступок.