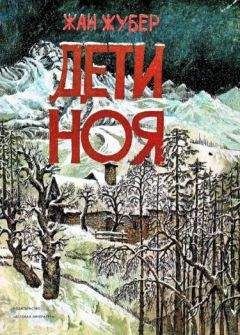— Ах, как мне хотелось бы поскорее испробовать их!
— А почему бы и нет?
— Да ты посмотри на часы: уже почти десять! На улице тьма кромешная. Придется потерпеть до завтра. Встанем пораньше и сразу же пойдем, даю слово!
Он прислонил снегоступы к стене возле камина, и мне вдруг показалось, что это здорово похоже на хижину трапперов.
— Ну, спокойной ночи, Симон! — сказал отец, обнимая меня, — Вот бы нам удалось! Тогда я сделал бы еще пару для тебя, да и для мамы и Ноэми тоже.
— Мы пойдем к Жолю?
— Да. Вот только снег меня беспокоит. На поверхности-то он за последние ночи слегка обледенел, а внутри остался таким же рыхлым.
— Ты боишься, что он тебя не выдержит?
— Да, сильно сомневаюсь. Но кто знает? Попробуем — попытка не пытка.
Мы взяли каждый свою лампу и, бросив последний взгляд на отцовский шедевр, отправились спать.
И вот отец сидит на корточках у края помоста, укрепляя на ногах снегоступы. Они вдруг кажутся мне чрезмерно громоздкими. Ясно одно: чтобы передвигаться на них, придется широко расставлять ноги. Восемь часов утра, еще как следует не рассвело. Однако на сумрачном небосклоне слабо маячит бледное пятно — похоже, что это солнце. Ма и Ноэми, закутанные до самых глаз, зябко жмутся друг к другу, а я помогаю отцу обвязать вокруг пояса длинную веревку, конец которой мы из предосторожности будем держать в руках.
Па натягивает шлем на голову и, слегка кивнув нам, отпускает перильца и сходит с помоста. Снегоступы сразу проваливаются в снег, но не очень глубоко и дальше не опускаются. Па выдвигает одну ногу, потом вторую и медленно отходит от помоста. Его неуклюжая поступь и меховая куртка, которую распирают изнутри целых три свитера, напоминают мне размытые изображения первых астронавтов, высадившихся на Луну, передаваемые тогдашними, еще несовершенными телекамерами. Да и весь этот безликий, рыхло-белый пейзаж, без всяких признаков растительности, очень смахивает на лунную поверхность, покрытую странной белой пылью.
Отойдя от помоста метров на двадцать, Па, все еще привязанный веревкой, за которую мы держимся, оборачивается и бросает на нас взгляд, выражающий одновременно и радость по поводу частичной удачи, и сомнение в конечном успехе. Он уже вышел за пределы двора и продвигается — все медленнее и осторожнее — вперед, хотя снегоступы увязают глубже и глубже. Вдруг его кренит в сторону так сильно, что он вынужден остановиться. Несколько секунд он стоит, пытаясь вновь обрести равновесие и вытянуть глубоко увязший снегоступ, но это ему не удается. Его все сильней и сильней клонит вниз, он взмахивает руками и неожиданно надает на бок.
У нас вырывается крик. Как и было условлено на этот случай, мы начинаем тянуть за веревку — сперва безуспешно, ибо отец просто-напросто исчез из нашего поля зрения. Однако, пережив несколько секунд тоскливого ужаса, мы все-таки вытягиваем его из снежной ямы. Сперва он высовывает оттуда голову, потом выбирается по грудь и, цепляясь за веревку, медленно продвигается к нам, а мы тянем, тянем из последних сил. Наконец нам удается втащить отца на помост. Он перемерз, вконец выдохся и ворчит, что с этим проклятым снегом дело безнадежное, тем более он потерял снегоступы и ясно, что таким способом нам отсюда не выбраться.
Ма тащит отца вниз греться и готовит ему из остатков рома грог, а он тем временем, скинув мокрую от пота и снега одежду, кутается в одеяло. И мрачно сидит у огня, молча переживая свою неудачу.
Наконец он со вздохом встает и знаком просит меня идти за ним в хлев, чтобы подоить животных, которых мы, поглощенные нашим замыслом, совсем забыли. Я замечаю, что он треплет корову по шее как-то рассеянно, даже и не думая разговаривать с ней. И, усевшись на скамеечку, обращается ко мне:
— Ну что ж, придется смириться с мыслью, что мы — пленники.
— Не повезло нам, ох как не повезло! А ведь мы все здорово подготовили!
— Я так хотел, чтоб тебе удалось пройти!
— Да и мне на минутку показалось, что дело выгорит, но увы! Вот что, Симон, я хочу тебе сказать…
Ни я, ни он так еще и не начали доить, и наша Ио, сильно озадаченная такой необычной задержкой, с приглушенным мычанием повернула к нам голову.
— Мне бы не хотелось тебя пугать, — сказал отец, — но ты уже большой мальчик и способен меня понять. Я не решился говорить там, в присутствии Ноэми, — Протянув руку, он оперся о коровий бок, — Так вот, я хочу тебе сказать, что в этом снеге есть что-то нереальное, да-да, именно нереальное, нездешнее. Во-первых, эта его светящаяся белизна, и затем, необычная рыхлость, сыпучесть… Я такого никогда не видел, и только что, когда мои снегоступы ушли вглубь, я почувствовал, что вот-вот задохнусь в нем. На мое счастье, вы стояли там с веревкой, не то мне одному в жизни бы не выбраться.
— Так ты думаешь, ничего нельзя сделать? И пытаться не стоит?
— Ну во всяком случае, не таким способом. Пока остается только ждать.
Ждать… Этим мы занимались уже целых десять дней, но наши попытки подавать дымовые сигналы, потом изготовление снегоступов и надежда, связанная с ними, какой бы слабой она ни была, придали нам силу жить. И вот мы потерпели неудачу. И отец признал свое поражение.
В этот миг я сильнее, чем когда-либо, почувствовал, как безнадежно мы затеряны в этом огромном мире, — словно потерпевшие кораблекрушение и выброшенные на необитаемый остров вдали от судоходных путей, мы пропадали среди этой белой пустыни. Или еще того хуже (этот образ внезапно пришел мне на ум, повергнув в минутный ужас): снег погреб под собой всю планету, и каким-то чудом, в виде короткой отсрочки, одни только мы остались живыми на этой Земле.
В последующие дни мы начали испытывать легкую нехватку воздуха. Он, конечно, поступал через наше единственное окно, которое мы оставляли открытым по нескольку часов в день, но это влекло за собой другое неудобство — дом выхолаживался. Что же до прогулок на «террасе», к которым понуждал нас отец, то мы быстро замерзали и норовили улизнуть в дом, к огню. А внутри скапливались назойливые запахи сажи, бензина, пищи и, главное, курятника и хлева, где постепенно набиралось все больше навоза.
Ма жаловалась вдобавок на запах табака, так что отцу пришлось теперь курить, забираясь внутрь камина, там он и сидел, скрючившись на скамеечке и прислонясь спиной к стене; или же он покорно удалялся на чердак, где обустроил себе нечто вроде добавочной резиденции возле самого окошка, ведущего в снежный тоннель. Для него это, вероятно, была редкая возможность хоть несколько минут побыть в одиночестве. Он составил в уголке старое кресло тетушки Агаты, этажерку и полочку с кое-какими книгами. Усевшись в кресле и положив ногу на ногу, он выбирал нужный том и читал, попыхивая трубочкой. Я полагаю, что он использовал свое уединение еще и для того, чтобы тайком делать записи в «вахтенном журнале» или пересматривать список продуктов. Когда на улице было не слишком пасмурно, ему хватало дневного света из окошка, но зато не хватало тепла. Па вставал и принимался расхаживать взад-вперед. Сидя в гостиной, мы прислушивались к его шагам у себя над головой.
— Папа нервничает! — замечала Ноэми, глядя на потолок.
— Может, он замерз? — беспокоилась Ма, — И что ему делать там одному на чердаке? Пойди скажи ему, чтобы спускался вниз!
Конечно, отец нервничал, невзирая на свой бодрый вид, и стал нервничать еще сильнее, когда подошли к концу его запасы табака. На эту тему я нашел запись в его дневнике: счет шел в убывающем порядке — три пачки, две, одна, полпачки, десять граммов. Потом — яростно подчеркнутое слово «конец!». Он метался по дому, как хищник в клетке, ворчал, ругался, сосал пустую трубку. Настроение у него было отвратительное, даже Ноэми не удавалось к нему подольститься. Он, обычно такой миролюбивый, ухитрился даже несколько раз поцапаться с Ма, что мне очень не понравилось. Он то кидался к верстаку и начинал ожесточенно работать, то бросал все и убегал к себе на чердак.
Потом он попробовал курить сухие травы, пучками висевшие на чердаке: мяту, шалфей, полынь. Результат: кашель и тошнота. Пришлось от этого отказаться. И вдруг неожиданно он почувствовал себя лучше: «Мне стало легче дышать. Да и голова теперь яснее!» И вновь к нему вернулось миролюбие. Он наконец завершил своего коня. Временами он ставил его на стол и медленно водил вокруг лампой, любуясь игрой теней. Конь то смеялся, то страдальчески оскаливался, в его вздыбленной позе было что-то демоническое. Лицо всадника прикрывала птичья маска, на руке у него сидела выдра. Мы допытывались у отца: «Зачем это?» — но он отказывался объяснять. Он утверждал, что образы эти возникают у него внезапно, что это интуиция, греза, смутные воспоминания и он воплощает их в дереве, даже не пытаясь понять. Как бы то ни было, а эти всадники — порождения снежного плена и тьмы — долго еще мчались на своих конях сквозь мои ночные кошмары. Даже теперь, особенно когда я пишу эти страницы, они внезапно встают перед моим мысленным взором — немые, угрожающие фигуры, призраки былых детских страхов.