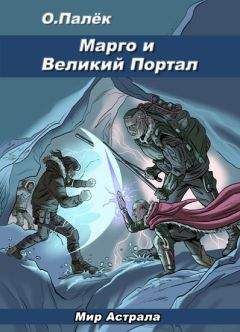— Я в курсе…
Светлана Ивановна засмеялась:
— Я рада. Кстати, напомни ему, что у нас в субботу заседание литературного клуба. Он обещал прийти.
— Он никогда ничего не забывает, — вздохнула я.
— Это же хорошо!
— Не всегда… Но раз обещал — значит, придёт. Хотя я напомню, мне не трудно…
Светлана Ивановна снова улыбнулась. Хорошая у неё улыбка, совсем не учительская. Почему другие видят в ней строгого завуча? Скорее, она похожа на вожатую из лагеря, в который я ездила когда-то давно, в совсем нежном возрасте. Вожатая Нина утешала, когда мы скучали по дому, разбирала ссоры и всегда придумывала что-то интересное…
— Да, хотела спросить, — я ткнула пальцем в фамилию Сельцова в списке. — За что вот этого вызывают?
— За драку. Ты не знаешь разве?
— А когда она была?
— Вчера.
— Я же на конференции заседала. На областной.
— Точно… В общем, устроил ваш мальчик натуральное побоище. С двумя одноклассниками.
— Один? С двумя?
— Да. Причём он просто избил обоих, судя по результату. У одного — сотрясение мозга, у другого такие синяки, что на улицу минимум неделю не выйдет.
— А кого? — я принялась лихорадочно вспоминать, кого сегодня не было.
— Сильченкова и Корнеева.
— Точно… Как это он смог?
— А вот это мы выясним на Совете. Ты-то придёшь?
— Конечно!
Мы попрощались, и я вышла на улицу.
Свежий ветерок гонял по асфальту сухие листья. Дворники собирали их в кучи и грузили в мешки, но справиться с осенью не могли. В ветках деревьев запуталось яркое, но уже совсем не жаркое солнце. Оно делало листья золотыми, а небо — ярко-синим и блестящим, умытым. Не скажешь, что середина октября.
Первого сентября подули холодные ветры и даже начал моросить дождик. Сама природа говорила: каникулы кончились, пора заняться серьёзным делом. Но потом в небесной канцелярии решили, что попугали нас достаточно, и вот уже второй месяц стоит солнечная погода. Только ночью шумят бурные и короткие грозы. Утром город блестит мелкими лужами, в которых, как кораблики, плавают опавшие листья. И воздух осенний — тоже особенный. В нём — запах прелой листвы, мокрой коры старых лип, свежесть холодного ветра и никакой пыли. От этого он делается хрустальным.
Хорошо, что до дома идти минут сорок. Можно подышать, пошуршать листьями, и ни о чем особо не думая. Сидела где-то глубоко в душе заноза — Тихонов. Что ему надо?
Лучше о нём не вспоминать, не портить настроение. Вот когда насупит холод и слякоть, небо станет серым, а воздух промозглым — тогда и разберёмся с таким же мерзким типом. И — мучило любопытство. Что там вышло у Сельцова с двумя достаточно крепкими парнями? Как он с ними справился? И, главное — что нужно сделать, чтобы вывести из себя по жизни отмороженного Сельцова?
* * *
Читала в и-нете, на какой-то юмористической страничке: «Что такое одиночество? Это когда выходишь из лифта, в коридоре вкусно пахнет, и понимаешь, что пахнет не у тебя».
Папа, конечно, тут же сказал: «Давать определение со слов «это когда» — первый признак неумения говорить», но при этом хмыкнул и быстро глянул на потолок, как будто записал на нём что-то. Значит, мысль понравилась.
И я стала, выходя из лифта, принюхиваться. Если вкусно пахнет — значит, папа дома. Мама готовит на скорую руку. Сварит кастрюлю супа — вот вам, питайтесь. А разогретым супом на лестнице пахнуть не будет. Проверено.
Отец готовит долго и со вкусом. Казалось бы, вот овощное рагу. Порезал, свалил всё в сковородку и перемешивай. Правда, в результате каша получается, но есть можно. Нет, папа простых путей не ищет. Он жарит кабачки отдельно, баклажаны — отдельно, грибы последними, мясо вообще на другой сковородке. И каждую серию разными приправами посыпает. Получается обалденно, и запах стоит такой, что ноги подкашиваются.
Вот и сейчас ароматы висят, как облака. Кажется, их можно потрогать. Я быстро открыла дверь своим ключом и крикнула:
— Пап, это я!
— Ура, — громко и деловито отозвался папа с кухни.
Я сбросила туфли, уронила рюкзак и только взялась за молнию на куртке, как запиликал телефон.
— Лера, ответь, у меря руки в муке! — крикнул отец.
Я схватила трубку радиотелефона в зале.
— Алё!
— Здравствуйте, можно Юрия Ивановича? — поинтересовался незнакомый женский голос.
— Да, минутку.
Я пробежала на кухню:
— Пап, тебя!
— Спасибо. Обуйся, что ты без тапок, — отец сдвинул сковородку с огня и взял трубку. — Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я не ушла. Привычно залюбовалась отцом. Он совершенно не походил на преподавателя университета и редактора толстого журнала. Бывали дома такие гости — маститые-именитые, обрюзгшие и вечно чем-то недовольные. А отец высокий, широкоплечий и часто улыбается. А ещё у него совершенно пиратская борода. Светлая, окладистая. И высокий лоб с залысинами. Когда отец сердится, он похож на Святого Николая с иконы, что висит в кабинете над столом. Но сердится он редко. Сейчас папа нахмурился, но не сердито, а сосредоточенно. Так Дед Мороз слушает стишок на утреннике.
Интересно, кто звонит. Ведь это явно какая-то совсем чужая женщина. Она полностью выговорила имя-отчество отца, а ведь даже ученики в лицо зовут его «Юриваныч». Студенты приходили по вторникам на какие-то чтения, но читали мало, а больше спорили, размахивая руками. В такие вечера хорошо сидеть на подоконнике и слушать их весёлую перебранку. Не очень понятно, о чём говорят, но зато появляется такое чувство, как будто готовится какой-то праздник. И мама, хоть и устаёт на работе, всегда приносит студентам чай и бутерброды. Я помогаю ей. Не из вежливости — просто тоже хочется стать частью происходящего, а не просто зрителем.
Скорей бы уже мама вернулась! До конца её командировки ещё пять дней, плюс один на дорогу. Почти неделя.
— Ну и что вы от меня хотите? — спросил отец в трубку. Встретился со мной глазами, сделал страшное лицо, глянул на мои ноги. Я подавила улыбку и ушла переодеваться в домашнее.
Когда я вернулась на кухню, отец раскладывал по тарелкам овощное рагу.
Я подала вилки и принялась резать хлеб.
— Пап, кто звонил-то?
— Одна маленькая девочка.
— Да ладно тебе. Я слышала, у неё совсем взрослый голос.
— Голос взрослый, — согласился папа. — И ещё некоторые… внешние признаки. Но это ни о чём не говорит.
— Она что, недоразвитая?
Отец сел напротив и мягко улыбнулся:
— Нет. У неё просто начался самый дурацкий возраст.
— Это сколько?
— Года двадцать два — двадцать три. Двадцать пять — край. Но это вряд ли.
— Шутишь, да?
Отец покачал головой.
Я отправила в рот несколько ломтиков жареных овощей и подумала вслух:
— Сейчас в четырнадцать паспорт получают. А в восемнадцать уже все права дают, даже президента можно выбирать. И замуж выходить. Ты всё придумываешь. Нет такой теории, чтобы люди в двадцать лет глупели.
— Зато есть практика, — спокойно отозвался папа. — В девять лет все дети обещают, что никогда не будут пить и курить. То есть понимают, что это глупо и ненужно. А потом почему-то передумывают. Ты, кстати, тоже обещала. Помнишь? А вчера пришла домой вся табаком пропахшая.
— Папа! Ты что! — я даже есть перестала. — Это парни рядом курили!
— Почему-то я думаю, что в девять лет ты не стала бы дружить с курящими мальчиками.
— В третьем классе только дураки курят!
— А в восьмом самые умные?
— А они не из восьмого! Они большие!
— То есть чем старше, тем больше курящих, — с удовольствием подвёл итог отец. — Ты только что подтвердила мою теорию.
Вот всегда так с ним. Говорит вроде полный бред, а ответить нечего. Правильно завуч сказала — парадоксальное мышление…
— Кстати, у тебя в субботу литературный клуб в школе.
— Да, я помню.
— Я так и сказала… А когда самый умный возраст?
— Лет в одиннадцать. Потом человек начинает дурить. И чем старше становится, тем больше думает о себе и меньше слушает старших. К двадцати трём этот процесс доходит до высшей точки. И у многих там и остается. Но некоторым везёт, они попадают в такие условия, где надо работать над собой. И годам к тридцати пяти — сорока вновь доходят до уровня одиннадцатилетних. Снова понимают, что курить, пить и выпендриваться — плохо, что надо слушать тех, кто поумнее, побольше делать, поменьше болтать. Но таких исчезающе малое количество.
Папа налил чаю, достал печенье. Я спросила:
— Как тебе студентов доверили? Ты ведь их не любишь.
— Ты тоже не всех одноклассников любишь, но это не мешает тебе ходить в школу.
— Не всех, это точно. Особенно мальчишек. Почему они такие дураки?
— Они не дураки. Они просто другие. И считают дураками других. Тебя, например.
— Ну, это вряд ли. У меня они половину уроков списывают.