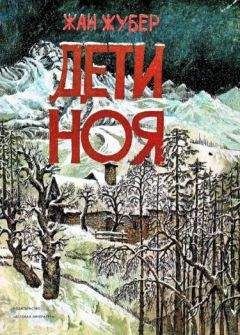До нашей катастрофы отец и мать не часто бывали здесь, особенно Ма, которая терпеть не могла всю эту «свалку» и даже поговаривала о том, не позвать ли старьевщика, чтобы он очистил чердак. Но отец упрямо качал головой, и я чувствовал, что сам размах этого замысла слегка пугает его. Мы с Ноэми тут же начинали умолять родителей: «Не надо, жалко, не трогайте ничего!» Тогда Па уклончиво говорил, что это, в общем-то, не срочно, что надо бы еще подумать, и некоторое время вопрос не обсуждался. Подобная сцена повторялась множество раз без всяких последствий, и скоро Ма, к нашей радости, махнула на чердак рукой.
Сколько же счастливых часов провели мы с Ноэми на этом чердаке!
В хорошую погоду мы, конечно, гуляли по лесу или помогали отцу в саду, но в дождливые дни, покончив с уроками, тут же бросались в наши владения. Стоит мне закрыть глаза, и мне явственно вспоминается крутая лестница с узкими ступеньками, ведущая наверх из конца коридора; я ощущаю под пальцами отполированные бессчетными касаниями перила, Подъем всегда казался немного опасным, как будто нам следовало заслужить это восхождение в рай. Сестра, тогда еще совсем маленькая, взбиралась по лестнице на четвереньках с криком: «Симон, подожди меня!» Я брал ее за руку, и мы осторожно пробирались в полутьме по узкому извилистому проходу между кучами вещей. Я устраивался на ящике возле слухового окошка, где было чуть посветлей, а Ноэми шныряла где-то там, в глубине, приручая своих мышей. Вытащив из пачки старый журнал, я разглядывал фотографии и читал статьи о войнах, о великих открытиях, о первых полетах ракет на Луну. И я думаю, что изучил историю именно здесь, а не в школе; некоторые страницы я перечитывал по стольку раз, что мне начинало казаться, будто я и сам жил в те стародавние времена.
Словом, мы облазили весь чердак и изучили его досконально, Ноэми даже лучше меня. Вот почему, когда снег отрезал нас от внешнего мира, мы стали проводниками отцу и могли без всякого труда разыскать в этом лабиринте ту или иную понадобившуюся вещь.
Поднявшись на чердак, я увидел, что Па сражается там с паутиной и досками. Он наполовину вытащил из-под них старую железную решетку, вероятно служившую некогда садовой калиткой, и прислонил ее к стене. Теперь он пытался, кряхтя и отдуваясь, высвободить ее целиком. «Ну-ка, — скомандовал он мне, — влезь туда, вглубь, и подтолкни ее на меня!» Кое-как мы извлекли решетку на свет божий, она оказалась гораздо больше окна, но Па объяснил мне, что вделает в стены крючья, на которые и подвесит решетку, и тогда можно будет совсем снять ставень. Сейчас об этом, конечно, и думать нечего, поскольку волки сторожат снаружи и поднимают адский шум на крыше всякий раз, как услышат блеянье козы. Но это не страшно, сказал Па, так как первым делом следует подготовить стену; и он посылает меня за инструментами, творильным ящиком [40] и цементом. Я замешиваю раствор, на сеновале грохочет молоток, и волки замолкают, видимо удивленные этим непривычным шумом. Представляю, как они сидят там, на террасе, и отделяет их от нас всего ничего: ставень, лестница да колодец в снегу. Небось насторожились и смотрят во все глаза, не появится ли коза, от которой они в один миг оставят рожки да ножки. Вот о чем я думаю, размешивая мастерком раствор, и мне чудится кровавая лужа на снегу.
Па тем временем выбил в стене четыре глубоких аккуратных отверстия и заложил в них железные крючья. К вечеру работа была окончена, жидкий цемент затвердел, как камень. Наверху стояла тишина. Па долго вслушивался. «Я думаю, они ушли, — оказал он, — давай-ка попробуем».
Он осторожно приоткрыл ставень, прислушался опять и наконец снял его с петель. Мы быстро приладили решетку, ее края надежно держались на крюках. Для пущей уверенности мы закрепили их веревками. Все это очень напоминало дверь тюремной камеры. Снаружи было темно, зато по чердаку гулял теперь свежий воздух.
Начиная с этого вечера мы стали пленниками вдвойне: теперь мы живем за решеткой и лишь время от времени, пользуясь отсутствием волков, рискуем выбраться на террасу. II то нерегулярно, ибо волки исчезают и возникают в самые неожиданные часы, словно подчиняясь какому-то своему загадочному распорядку. С каждым днем они все больше тощают, все злее оскаливают зубы, воют все заунывнее. Мало-помалу мы свыкаемся с их соседством и повадками. Как только воцаряется тишина. Па снимает решетку и осторожно, озираясь, взбирается по лесенке. Убедившись, что вокруг пусто, он делает нам знак подниматься, но сперва обходит террасу, проверяя, не спрятался ли за ней зверь.
Небо по-прежнему сумрачное, низко нависшее. Па оглядывает окрестности в бинокль. Теперь-то я знаю, как он жалеет об отсутствии ружья. Он выбрал себе в качестве оружия большой, остро наточенный кухонный нож, крепко-накрепко привязанный к длинной палке. Получилось что-то вроде копья, которое он, выходя па помост, всегда держит при себе, на случай внезапной опасности. Когда Па стоит с этим оружием в руке, он очень похож на гарпунера, и мы, конечно, посмеялись бы над ним, если бы у нас давно уже не пропала охота веселиться. Какой там смех, мы и улыбаться-то совсем перестали, особенно Ма, которая стала странно молчаливой; иногда у нее начинают дрожать руки.
Один только Па старается выглядеть жизнерадостным, поскольку он твердо намерен, невзирая на все свои страхи, поддерживать бодрость духа в семье. Он приказывает нам маршировать по помосту вдоль и поперек, глубоко дышать, делать гимнастические упражнения и сам первый показывает нам пример. Мы подчиняемся, мы дуем на озябшие пальцы, Ноэми хнычет. Па кричит ей: «Ну-ну-ну, бодрись, мы все должны быть в добром здравии!» Это верно, но вот Ма с трудом соглашается выйти наружу подышать воздухом, а выйдя, отказывается двигаться, лишь присядет на минутку, прислонясь спиной к перилам, и с отвращением глядит на истоптанный волками снег. И под любым предлогом старается спуститься обратно в дом. Па не удерживает ее. Однажды вечером, в хлеву во время дойки, он поделился со мной: «Наша мама беспокоит меня, Симон. Нет-нет, не думай, она не больна, но я чувствую, что она устала, бесконечно устала, а ведь была всегда такая стойкая. Да, я понимаю, тяжело все это, особенно для нее. И потом, она начинает фантазировать, выдумывать какие-то истории, ну да ты ее знаешь. Надо отвлекать ее от мрачных мыслей, поддерживать, ободрять. В конце концов это пройдет». Я увидел, что, едва высказав все, что тяжким грузом лежало у него на сердце, он уже пожалел об этом. На секунду он положил руку мне на плечо, йотом отвернулся и, схватив вилы, принялся яростно накидывать сено в кормушки.
Мы с Ноэми, как можем, помогаем Ма на кухне и по хозяйству. Мы пытаемся разговорить ее, но она, похоже, едва нас слышит. Только иногда стряхивает с себя оцепенение, лицо ее проясняется, и она говорит: «Какие вы оба молодцы, какие храбрые. Умницы вы мои!» И верно, к этому времени я почти перестал ссориться с Ноэми. Конечно, мне иногда противно слушать ее рассуждения, которыми так восхищается Па, но я уже не реагирую так бурно, как раньше; теперь я держу себя в руках и молчу… Во мне мгновенно вскипает раздражение, которое так же быстро и улетучивается. Честно говоря, та история, когда Ноэми опознала волков, здорово поразила меня.
Время от времени, оставшись одни, мы начинаем откровенничать. Ноэми говорит:
— Мне иногда кажется, что это никогда не кончится, что вся земля покрыта снегом и нигде никого, кроме нас, не осталось… А тебе, Симон, тоже страшно?
— Конечно, страшно, но только не надо говорить об этом вслух. Весна все равно когда-нибудь наступит — настоящая весна. И мы опять увидим деревья, луга, цветы…
— И птичек.
— Ну да, и птичек, а еще Себастьена на тракторе, и мадам Жоль, и их Марка — вон там, на повороте дороги. Представляешь, как будет здорово! Вот все обрадуются!
— Может быть, может быть… А иногда я думаю: вдруг к нам прилетят с Луны, на ракете. Подадут сигнал, спустят лестницу, и мы возьмем да улетим туда, наверх, вместе с Гектором, Зоей и курами. А как ты думаешь, смогут они взять нашу Ио?
— Конечно, если ракета будет большая.
— О, у них знаешь какие огромные ракеты!
А однажды вечером, когда мы с Ноэми были в хлеву, она вдруг сказала:
— Наверное, мы все здесь погибнем.
И оба мы дружно разрыдались.
Иногда она вела себя совсем как взрослая женщина, наша Ноэми; серьезный вид, солидная манера говорить, умные книги; а иногда выглядела прямо маленькой девочкой со своими страхами и громким ревом. Вот такой я ее любил и плакал, по правде говоря, именно потому, что видел ее в слезах.
И вот на протяжении нескольких дней маленькая девочка прочно заняла место взрослой особы. Она опять решила заплетать волосы в косички, опять начала сосать палец. Она садилась перед камином, у ног Ма, и протягивала ей книжку: