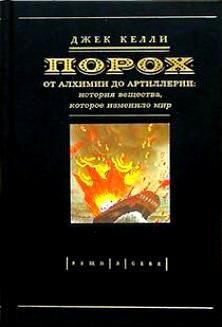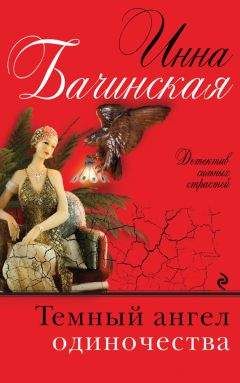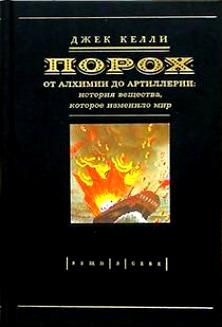И мирозданье, разумеется, уже готовит им новую встречу, нужно лишь не сидеть сложа руки.
Как ни странно, мироздание действительно откликалось на Никины ожидания и запросы. Словно робело перед ней, не смело огорчить.
Вот и теперь — они с Мартой даже не успели дойти до расписания.
— Девушки, я что-то запутался: где тут у вас медпункт? На втором или на третьем?
Он стоял на площадке между этажами, под выцветшей мозаикой, на которой предки ортынчан — набранные крупными квадратиками и напоминавшие фигурки из старой компьютерной игрушки — превозмогали таких же угловатых псоглавцев, сеяли хлеб, ловили рыбу и почему-то запускали в космос пассажирский самолёт.
Первое, на что обратила внимание Марта, были глаза. Изумрудные, чуть насмешливые, очень внимательные. Кошачьи, сказала она себе. Хоть и зрачок не вертикальный, а всё равно, не в зрачке дело.
Одет он был — да, попроще: серые брюки, серый костюм. В левой руке держал кожаную папку на молнии.
И лицо у него было совершенно не запоминающееся: нос с едва заметной горбинкой, аккуратная стрижка, ровная линия губ, уши — обычные уши, каких сотни тысяч.
И что Ника в нём нашла?
— На третьем, конечно! — сказала Ника. — Но раньше был на втором, многие до сих пор путают, это ничего. А вам зачем? Вы новый врач?
Он засмеялся — тихим, бархатным смехом.
— Нет, — ответил, — не врач, разве я похож на врача? Хотя кое-что общее у нас есть. Я ваш новый… как это у вас называется? Обжора?
Марта с Никой переглянулись.
— А, — догадалась Ника, — вы имеете в виду — обожемойчик. — Она хихикнула и тут же покраснела: — Извините.
Он махнул рукой:
— Всё в порядке. Придумал кто-то название, да? «Основы безопасности жизнедеятельности». «Жизнедеятельность», надо же! Ну, всё это, в общем-то, ерунда. Главное — суть, вот ею мы и займёмся. Так на третьем медпункт?
— Да, там повернуть, потом за живым уголком ещё раз… Давайте лучше покажу, а то запутаетесь. Вас, кстати, как зовут?
И в этот момент случилось что-то странное — или наоборот, вполне заурядное и предсказуемое. Изумрудноглазый моргнул, взгляд его мягко скользнул от Ники выше, к упомянутому третьему этажу. К выходившим на лестницу Дане и Аделаиде.
То, что Аделаида до сих пор как бы жила в Ортынске, каким он был полвека назад, не делало её изгоем. Вот с Даной, например, она сразу же нашла общий язык. Рядом они смотрелись странновато: высокая, хрупкая Аделаида и пухленькая, добродушная Дана. «Лебедь и хомячок», — шутил Стефан-Николай.
Они действительно привлекали к себе внимание, но кошачий взгляд господина обожемоя на Дане даже не задержался.
А вот на Аделаиду он смотрел целых три секунды — прежде чем повернуться к Нике с вежливой, внимательной улыбкой.
— Да нет, спасибо, я сам найду. Надо же привыкать к этим вашим лабиринтам. А зовут меня Виктор. Виктор Вегнер.
— Господин Вегнер, а…
— Простите пожалуйста, мне нужно бежать, я и так испытываю терпение вашей медсестры. Говорят, она у вас дама суровая и бескомпромиссная, не хотелось бы в первый же день подставляться.
Ну, побежать он не побежал, но действительно быстро и проворно зашагал наверх. На проходившую мимо Аделаиду и не взглянул, но Марта видела, по спине поняла, что это был особый не-взгляд. Очень старательный.
— Думаешь, он меня заметил? — спросила Ника. — В смысле — по-настоящему. Ой, ну ладно, ладно, я сама знаю: он пялился на нашу спящую красавицу. Но… она же слегка того. С тараканами. По-моему, у неё ни шанса, а?
Марта со вздохом покачала головой:
— Не будь дурой, он старше тебя как минимум лет на семь. Для него это вообще подсудное дело. Тебе же восемнадцать только в следующем августе.
— Можно подумать! Пф! Если у тебя через неделю, по-твоему, уже и взрослая, да? А про семь лет — так знаешь, вон у Серкизов разница вообще в пятнадцать — и ничего! Потому что настоящая любовь — она выше всяких условностей!
Марта хмыкнула, но дипломатично промолчала. Кажется, в настоящую любовь она перестала верить примерно тогда же, когда и в Деда Морозко. С другой стороны, спорить с Никой настроения сейчас не было.
Она отсидела остальные уроки, не слишком вникая в происходящее; благо, второй день учёбы, ничего серьёзного. В Инкубатор ей не нужно было, Марта работала там по вторникам, четвергам и субботам; да и хорошо, что так: она бы сегодня наработала, конечно…
Они прошлись с Никой до парка Памяти и немного посидели на солнышке. Раньше — во времена Аделаиды — здесь тоже были жилые дома, но после катастрофы развалины снесли, а на их месте разбили парк. В центре бил фонтан, на пересечении дорожек выращивали памятники.
В парке было уютно: птички пели, бегала ребятня, в фонтане мелодично квакали принцежабы, южная разновидность, со светящейся короной. На соседней скамейке, правда, примостились цынгане: белокурая мама с двумя малышами и мужем. Что это цынгане, Марта сразу поняла: одеты были не по-здешнему и вели себя странно. Малыши сидели смирно, как резиновые пупсы, разглядывали пальцы на собственных ногах, иногда начинали пересчитывать их, как будто боялись, что тех стало меньше. Муж кому-то звонил по телефону, вскакивал, разговаривал с невидимым собеседником, доказывал, умолял, садился, набирал новый номер — и так по кругу. Женщина с невероятной какой-то тщательностью развернула и ела бутерброд, то и дело косясь на пупсов. Наконец муж договорил, кивнул ей, и они, сунув малышей в кенгурушники, двинули к выходу из парка.
Марта следила за ними рассеянным взглядом: цынган она не боялась, всё рассказы о том, будто они переносят заболевания, известно же, — суеверия. Вот странно: цынгу лет сто назад победили, а любого переселенца, если выглядит не слишком богато, зовём цынганом. Марта хотела поделиться своими мыслями с Никой, но не сумела. Не смогла поймать паузу, чтобы вклиниться.
Подумала: может, это и к лучшему…
А Ника знай себе щебетала о настоящей любви и о своих стихах, которые рано или поздно кто-нибудь оценит как следует, и уж тогда-то…
Марта в нужных местах поддакивала.
Возвращаться домой не хотелось. Элиза, ещё вечером отпросившись с работы, поехала разбираться с заявкой и прочими документами (кстати, какими? — Марта так и не поняла). Отец же был дома один. Если Марта вернётся и не поговорит с ним… ну, тут уж изволь: «пусть заявит об этом сейчас или молчит вовек».
А Марта ещё не решила: заявить или молчать. Что-то такое вчера вечером происходило в доме — непонятное, смутное. Пугающее? — пожалуй, но вовсе не тем, чего она ожидала.
Мачеха постелила отцу на диване, он ни слова не сказал, лёг, накрылся с головой и почти сразу уснул. До этого они с Элизой перекинулись буквально парой фраз, пока Марта ставила чайник. Ужинали молча, смотрели новости — про высокий урожай, про цунами в одном из тридесятых, про мировую премьеру «Битвы за Конфетенбург». Сразу после новостей отец и лёг.
Утром, когда Марта уходила в школу, он по-прежнему спал, а с Элизой говорить ей давно уже было не о чем, общались только по необходимости.
Ладно, сказала себе Марта, в конце концов, не на скамейке ведь ночевать. Это уже трусость, знаешь ли.
Вдобавок дело явно шло к чтению (и, соответственно, слушанью) новых стихов Ники, а Марта сегодня на это ну совсем не была способна.
На обратном пути она зашла в гараж, проверила, на месте ли вавилонская башня и упрятанные в ней трофеи. Всё выглядело так, словно с тех пор ни одна живая душа сюда не заглядывала. Надо Чистюлю успокоить, а то он на большой перемене целый допрос ей устроил: когда, мол, станем молоть, и надёжно ли спрятаны кости, и у кого есть ключи от гаража.
На пятый шла Марта не торопясь, так и эдак проигрывая в уме: а вот если он сам спросит, то я… а если наоборот, просто поинтересуется, дескать, как вы тут без меня…
Сверху кто-то спускался, она машинально посторонилась — и вдруг обнаружила, что это Людвиг. Людвиг мы-непременно-подружимся, гад такой.
Свет, падавший сквозь пыльное окно на лестничный пролёт, отчего-то раскрасил кожу егеря в жёлтое и серое, и сам Людвиг казался сейчас мумией из столичного музея. В детстве Марта была там с отцом и запомнила, как удивилась, увидав «чучело человека». Тогда она испытала жалость, но сейчас, конечно, ни о какой жалости и речи не было, — только глухая, беспомощная злость к этому плешивому гаду.
Он стоял, замерев на полушаге, смотрел на неё настороженно, и пахло от него дорогим тошнотным одеколоном. Ровненькие усы расчёсаны, уши вымыты, ногти все подпилены, хоть сейчас в музей.
— Марта, — сказал он. — Ты в порядке?
Она захлебнулась от этой наглости, от дубового лицемерия. Правильней всего было бы сейчас врезать кулаком снизу вверх, чтоб аж засипел, гад, чтоб согнулся, баюкая в горсти своё хозяйство. Вот тогда бы, наверное, она успела придумать достойный, меткий ответ.