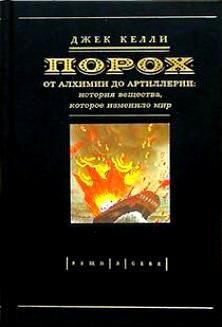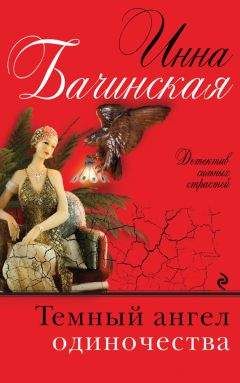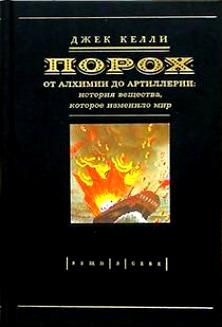Только пожелала уже из-за двери спокойной ночи. Марте даже на минутку показалось, что это не Элиза там, а мама; ерунда, конечно, их голоса в жизни не спутаешь.
Перед сном она сняла полотенце, чтобы просушить волосы, — и ахнула. Когда мылась, они ещё были того, прежнего цвета, а вот теперь снова пожелтели, даже как будто слегка мерцали во тьме.
Пшеничные волосы. Подарок, который оставил ей мёртвый дракон. Его метка.
А ночью ей приснилось, как отец играет на флейте. Он сидел в домике сторожа Михала, на столе перед отцом стоял змееголовый кувшин. Отец прикладывал флейту к губам, перебирал пальцами, но голос её звучал нечётко, как будто транслировался по Сети и связь всё время рвалась.
Марта слушала и вспоминала-представляла себе то, о чём он рассказал ей сегодня на кладбище. И то, о чём не рассказал, тоже.
В какой-то момент она словно оказалась в теле отца. Её везли в тёмном, холодном фургоне, битком набитом другими, такими же как он-она. Тела лежали на носилках, а носилки были зафиксированы на стеллажах: в несколько ярусов, от пола до потолка. На лицо Марте капало что-то вязкое. Слёзы, подумала она, чьи-то слёзы.
Везли долго, и Марта точно знала, что снаружи сейчас ночь и они въехали в город. Потом услышала колокола. Не тревожные — просто отбивающие очередной час.
Фура заходила ходуном, затряслась. «Едем по булыжнику, — сказал кто-то. — Уже совсем близко».
Но прошло полчаса, не меньше, когда наконец они остановились. Лязгнули засовы, распахнулась дверь, всё пространство внутри залило белым, мёртвым светом. Вдоль стеллажей пошли какие-то люди в форме, у их ног двигались грубые, мохнатые тени, рвались с поводков. Люди одёргивали их, светили фонариками в лица лежавших, тыкали зачем-то палками под рёбра — не больно, просто проверяли. Ещё бы, подумала Марта, принялись щекотать пятки.
Снаружи тем временем происходило какое-то движение. Наконец эти, в форме, стали брать по очереди носилки, вытаскивать и что-то там с ними делать. Иногда возвращали обратно, иногда нет.
Когда дошла очередь до Марты, её тоже вынесли, но отставили в сторону, туда, где уже ждали другие носилки, и немало. Она лежала, чуть наклонив голову, так что видела всё. Странную фигуру, намалёванную прямо на асфальте, подсвечники по краям, с застывшими потёками воска и ярко пылавшими свечами. Видела, как, вынув из клеток, подносили к чаше очередные бьющиеся тельца. Клеток было много, в воздухе стоял пряный смрад зверинца.
Потом вдруг запахло лимоном. Эти, в форме, расступились и вообще как-то подобрались. Даже тени перестали рваться с поводков и присмирели.
Марта услышала цок-цок-цоканье. Как будто шёл козёл или ослик, но это, конечно, был никакой не ослик. Это ковылял человечек в подбитых подковами высоченных сапогах. Росту в нём было примерно столько же, сколько в Жуке или Пауле, но перед Мартой стоял не мальчик, а взрослый мужчина. В сером мундире, застёгнутом на все пуговицы; с широченной зелёно-пятнистой лентой для наград, на которой висели семь орденов Киноварной подвязки — и ещё восьмой, уникальный, алмазный. Лицо человечка было совершенно не запоминающимся: если бы не его рост и не лента с орденами, Марта, пожалуй, не узнала бы его, даже столкнувшись нос к носу.
Впрочем, нет, была ещё одна черта, которая не сразу бросалась в глаза — но зато после врезалась в память намертво. На голове человечка застыл приглаженный, плосковатый чёрный парик, но сквозь него наружу пробивались три волоска. И волоски эти были не чёрные, а кроваво-алые, аж слегка светились в темноте.
Время от времени человечек машинально вздёргивал руку, словно хотел пригладить эти волоски, но тут же отводил ладонь и морщился. Он вообще двигался рывками, по-птичьи, и голову склонял так же: чуть набок, сверкая тёмным глазом.
— Эти? — спросил человечек, остановившись над Мартой.
Кто-то из свиты кивнул и забормотал насчёт того, что да, простите великодушно, однако ж опять необходимо ваше непосредственное вмешательство. Простым ритуалом ничего не добиться; вот, к примеру, здесь у нас ветеран, слишком, понимаете ли, опытный, по всей видимости, что-то такое было у него в прошлом. Да вы и сами знаете, мы ведь уже с такими сталкивались несколько раз.
Он стоял и смотрел, чуть покачиваясь с пятки на носок, заложив руку за лацкан мундира.
— Лимон, — велел наконец человечек. Ему подали лимон, тут же при нём нарезали, воткнули в один из ломтиков изящную двузубую вилочку. Человечек взял её двумя пальцами, шевельнул ноздрями, затем положил ломтик на язык и принялся жевать, не спуская глаз с Марты.
Это длилось с полминуты, человечек жевал и жевал, затем вдруг наклонился вперёд и плюнул Марте в лицо. Растёр слюну по лбу и щекам, пальцы у него были холодные и липкие, с длинными ногтями, которые оставили на коже ранки.
— Никто, — наставительно сказал человечек, — никто не смеет умирать, если мы ему запретили. И никто не будет умирать. Даже если его убили.
Он пошёл дальше, а Марту словно бы что-то вышибло наружу, она взлетела над телом отца и увидела, что вся площадь, весь внутренний двор заполнены такими же носилками. На них лежали силуэты, иногда неполные, без руки или ноги, или со странными обводами тел, как будто их составляли из разных, несовместимых частей. Человечек шагал вдоль рядов, свита тащилась за ним, то и дело подавая новые дольки лимона. Он останавливался у каждых носилок. Жевал. Плевал в лицо лежавшему. Растирал ладонью слюну по лбу и щекам. Шёл дальше.
Только один раз он остановился на полушаге. Замер, вывернул вдруг свою худенькую шею, и посмотрел вверх, прямо туда, откуда следила за ним Марта.
И лишь тогда ей стало впервые за весь сон по-настоящему страшно. Она рванулась прочь — и сама не поняла, как оказалась высоко-высоко над Ортынском. По-прежнему была ночь, но — Марта знала это — нынешняя, а не тогдашняя ночь. Она летела над городом и видела Недлинку и Чертанную, и краешек чёрного, влажного леса, и дороги, и дома, а в домах — спящих людей. Она видела, как ворочаются в своих постелях мальки-вреды, как вздрагивают с каждой чистой нотой, добытой отцом из флейты. Как сны их клубятся, вспыхивают изумрудными прожилками, а то — начинают вдруг вращаться, словно крохотные смерчи.
Марта знала, что поутру все они забудут об этих снах. И знала, что это очень, очень плохо и опасно.
А потом ей приснились псоглавцы. Не те, кого она знала когда-то — другие. Те, кто жил сейчас за рекой. Те, с которыми встречался отец. Страшные. Хитрые. Чужие.
Она не сомневалась, что это — они, но не могла толком рассмотреть ни лиц, ни фигур. Просто сплошные силуэты в тумане.
Она ещё не знала, что этот сон будет возвращаться к ней снова и снова. Снова и снова Марта будет пытаться разглядеть их лица. Всякий раз — безуспешно.
И так — до того самого дня, когда псоглавцы появятся в городе.
7.09.14–16.05.15 г., Киев.