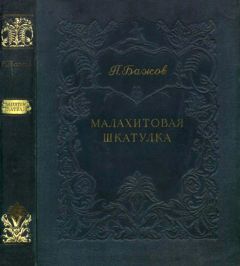Живой огонек
о соседству со мной мастер по огранке дорогих камней Митьша Заровняев живёт. Одногодок мой. В малолетстве мы с ним неразлучными дружками были, вместе, как говорится, собак гоняли, вместе и в заводскую школу бегали, а потом наши дорожки разбежались. Он попал в выучку по гранильному делу и хорошим мастером стал, а я, как все мои деды-прадеды, весь век по заводскому гудку жил, — в механической работал. Тоже по своему делу от добрых мастеров не отставал.
В эти рабочие годы мы, понятно, с Митьшей встречались, только досужего времени у нас немного было, да и не в одни часы оно приходилось. Бывало и так, что я с работы, а он на работу. Ну, и в разговоре разнобой пошел: он про огранку, я — про сборку. Так у нас ребячья дружба и завяла. А вот теперь, как оба на пенсию вышли, опять неразлучниками стали. Только та разница, что теперь друг дружку не Ваньшей да Митьшей зовём, а по отчеству величаем: он меня Осипычем, я его — Алексеичем. Дня не проходит, чтоб мы с ним не сошлись. То он ко мне приплетается, то я к нему, а в погожие дни любим на завалинке посидеть, солнышко проводить. Дома-то наши, видишь, на закатную сторону окошками приходятся, а эта сторона недаром стариковской зовётся. К нам через дорогу приковыляет ещё орёл. Тоже пенсионер. Токарь Евграф Васильич Менухов. Он постарше нас годов на пять. Мы ещё вовсе малышами были, а он уж в школе учился. По старому-то грамотеем считался, потому двухклассное кончил. Мы с Алексеичем в заводскую школу только три зимы бегали, а он учился целых пять зим. Тогда это уж высоко считалось. Из-за этой грамоты судьба-то у Евграфа пёстрая вышла. Сперва, после школы, тоже в механической работал, в свои годы женился, семью завёл, а дальше дорога кривулинами пошла. Не любило начальство тех, кто пограмотнее. «Умные, дескать, стали, судят о чём не положено». Ну, Евграфа и выжили из механической да и с завода. Пришлось ему по другим заводам кормиться. Уж после гражданской войны домой воротился. Десятка полтора годов ещё в полную работал, а тут старость на плечи сильно давить стала, да ещё погорячился на работе, с ним и приключился удар. Отлежался потом, вылечили, а левую ногу и теперь волоком переставляет, и в разговоре ясности не стало. А ведь раньше-то говорок был. Теперь при внуке живёт. Инженер он, на заводе цехом заведует. Дельный, сказывают, парень вышел и о старике заботливый. Старый домишко они перебрали, сбоку и вглубь прируб сделали. Евграфу Васильевичу особую комнату отвели со всяким удовольствием: и тепло, и светло, и спать мягко, на окошках цветы, радио проведено и за книжкой посидеть есть где. Одним словом, устроенный старик. Можно сказать, с кабинетом.
Переберётся этот Евграф Васильевич на нашу сторону и первым делом пошутит:
— Не горюйте, малолетки, что солнышко уходит! Приходите утром пораньше ко мне на завалинку — встречать будем. Веселее, поди, встречать-то!
— А сам зачем на нашу сторону приволокся?
— Да тоже потянуло поглядеть на то, что прошло. И та думка была, — не заскучали бы мои малолетки перед сном. Вот развеселить и явился.
— Садись уж, — говорю, — в серединку, тогда за старшого признавать будем, — в случае спора оба под рукой будем.
Алексеич свое начинает:
— Отдышаться не можешь, увеселитель! Через улицу перешёл, как на высокую гору поднялся! Шуткам-то, видно, конец приходит.
— Кому, — отвечает, — как. Иной смолоду кислится, — дескать, я умру, а всё останется. Другой до гробовой доски не тужит, потому как не о себе, а о своём деле больше думает: шло бы оно, а удастся ли самому поглядеть — об этом печали мало. И по работе отдача есть. Ты вот за станочком в одиночку в молчанку больше играл, а я весь век на людях крутился. На народе, известно, без шуток да прибауток, без шуму да гаму, без рассорки да мировой не проживёшь.
Это у них привычка такая. Сперва поперекоряются, потом уж вгладь разговаривать станут. Проходящие, глядя на нашу тройку, подшучивают:
— Вишь, какие белые груз дочки на нашей улице выросли!
Другие опять советуют:
— Что сидеть-то! Поразмялись бы! В лошадки бы хоть поиграли! Улица широкая, полянка кудрявая — раздолье! Неуж не бегивали?
— Бегать-то, — отвечаем, — бегали, да теперь кучера из нашей ровни не подберёшь, и очередь не наша. Нам другое отведено, — на завалинке сидеть да поглядывать, бойко ли молодые бегают.
Шутят так-то, а всё-таки у кого досуг случился, подходят послушать нашу стариковскую беседу, спрашивать примутся, свое слово вставят, старое к новому прикладывать станут, спор затеют.
Разговаривали, понятно, про разное, житейское, а без того не проходило, чтоб который-нибудь из нас, стариков, не помянул о деле, каким весь свой век занимался.
Один такой разговор мне больше запомнился. Алексеич его начал. В какой-то летний праздник было. Наша улица хоть не из самых людных, а молодого народа вечером по ней много бродит. Одних студентов сколько из города приезжает. Раньше-то наперечёт знали, кто из заводских в городе учится, а теперь разве сочтёшь, коли чуть не из каждой семьи уезжают в институты да техникумы. Очередные отпуска тоже к летним месяцам подгоняются. Ну, отпускники, которые не уезжали по дальним местам, а проводят время на рыбалке, охоте, либо просто в лесу и на покосах, тоже непрочь похвалиться, что ближний загар не хуже дальнего. К Евграфу Васильичу подошла за ключом невестка, внукова-то жена. Она у него врач и вместе со своими двумя ребятишками живёт летом в лагере, который на бывшей владельческой заимке. С Менуховой ещё три женщины. Из лагеря же, видно, потому на одной машине приехали. Лагерь-то ведь оздоровительный. Ребят там много из всех заводских школ. Ну, и врачей да воспитательниц немало требуется.
Не помню уж, по какому случаю Алексеич стал рассказывать про свои камешки.
— По нынешним, дескать, временам научились чуть не все дорогие камни из подходящих составов плавить. Александрит только не одолели, да изумруд упирается. Делают его, да пока плоховато, а остальные камешки хорошо идут. Кто в этом деле не крепко разбирается, тому, пожалуй, и не отличить плавленый от настоящего. Горщики, разумеется, не ошибутся, а гранильщики и подавно.
Одна из женщин и спрашивает:
— А в чём, скажите, разница? Как отличить плавленый камень от настоящего?
Алексеич позамялся, потом говорит:
— На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это явственно видно. С плавленым камнем тебе думать не о чем, потому — камешки один в один. Твое дело соблюдать размер — и всё. А самородный камешок, который из горы добыт, он смекалки требует. Подумать надо, с которой стороны и как его показать. Зато и утеха есть, коли угадаешь огранить, как тому камешку подходит. Глядишь на такой — и сердце радуется.
Тут парень один врезался. Не знаю его фамилии. Знаю только, что с турбинного. Задористый такой. В передовиках его на заводе считали. Портрет его как-то в нашей газете видел. Так вот и говорит:
— Если самородный только тем отличается, что с ним возни больше, так это пустое дело.
— Нет, не пустое! — говорит Алексеич и показывает на Менухову: — Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. Ты, небось, эту брошечку приметил. А у них вон, — указал он на другую женщину, — кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому — из плавленых.
— Верно, дед, — не скрывая своего удивления, подтвердил парень, — на брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил.
— Вот то-то и есть! А цвет, состав и крепость у камней одна. На любых приборах проверяй, какие хочешь пробы бери, разницы не найдёшь, а живого огонька, какой в самородном камне есть, всё-таки не увидишь.
— Значит, чего-то не нашли, — говорит парень и с уверенностью добавляет, — изучат полностью и доведут. Не беспокойся, дед.
— В том спору нет, что доведут, — говорит Алексеич. — Сам вижу, что дело вперёд идёт. Камни самой высокой марки выходят. О другом говорю: когда плавленый камешок, как самородный, свою особи ну иметь будет?
— По моим приметам, скоро, — неожиданно вмешался Евграф Васильич.
Алексеич, как он любил с Евграфом на словах сцепиться, сейчас ухватился за это.
— Что зря болтать-то! Какие у тебя могут быть приметы, когда ты близко к нашему делу не подходил? Что ты в нём знаешь!
Разговор у Алексеича резкий, крикливый. Кто близко к завалинке был, слышит, — старики заспорили. Подходить стали. Любопытно им. И те женщины, которые за ключом пришли, тут же стоят. Алексеича это, видно, ещё больше раззадорило, он уж вовсе кричать стал:
— Ну-ка, скажи свои приметы! Что навыдумывал?
— И скажу, только с уговором, чтоб не перебивать. Потом твой разговор будет.
— Как на собраниях?
— Так-то, по-моему, лучше, чем перекоряться да кричать.
— Ну-ну, балакай, коли ты такой умный! Пусть послушают, что выходит, когда берутся судить о том, чего не знают.