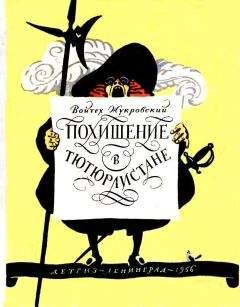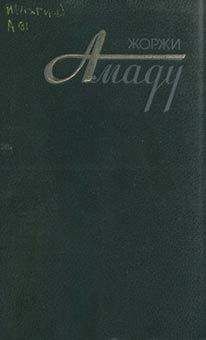Звякали падающие медяки, багровые в лучах заходящего солнца. Два разбойника крались вдоль плетней, ожидая, когда деревня опустеет, и только слегка развеселённый вином Пробка, развалившись на козлах, щёлкал бичом и пел во горло:
«За пригорком у ракиты
Скрягу грабили бандиты.
Ху! Ха!
Если крепок чей-то лоб,
Мы дубинкой по лбу — хлоп!
Ху! Ха!»
Скупцы выбежали из хат.
По знаку старосты Грошика они сбились в кучу и схватили друг друга за руки.
— На этот раз вам не удастся! Мы помним, как вы нас обобрали! Мы не дураки, — кричали они издалека.
Карета удалялась, падающие медяки позвякивали тише. Вдруг какой-то юркий мальчишка выскользнул из-за кордона и начал собирать деньги в шапку; этого скупцы не перенесли.
Цепь сплетённых рук лопнула. Забыв о прошлых опустошениях, скряги бежали по дороге и, нагибаясь, вырывали друг у друга из-под носа сыпавшиеся гроши. Через минуту деревня опустела. Все жители мчались за удаляющейся каретой.
— Удалось, — шепнул Мышибрат, дивясь пчеловодам.
— Так и надо скрягам, — топнула ногой королевна.
Небо потемнело; несмотря на слабый ветерок, было душно.
— Ну, и нам пора в путь.
Стоя на коленях, Хитраска упаковывала запасы. Она томно подняла глаза, в которых отражались еще хлеб и колбасы, посмотрела на петуха и сказала:
— Что бы мы стали делать без тебя, капрал? Ты наш опекун, наш лучший товарищ…
— Ты избавил нас от голода, — мяукнул Мышибрат, нежно обнимая друга.
— Э, не преувеличивайте… — скромно потупившись, ответил капрал.
— Скажи, — как ты сумел отобрать у них мою шкуру?.
— Что касается меха, то он его отдал с охотой.
— С охотой?
— Понимаешь, — и тут петух почесал голову и спину, — ну, понимаешь — блохи!
— Что?
— Блохи защищали твой мех.
Зардевшаяся Хитраска прошептала: «Мои милые, мои верные блошки…»
Ей ответили радостные и признательные писки.
— А я утверждаю, что это не петух, а свинья, — крикнула королевна.
Смущённый петух осмотрел свой гребень и хвост и не заметил никакой перемены: он был тем же старым петухом-ветераном.
— Виолинка! Как ты можешь!
— Только свинья может скрывать от нас еду, когда мы голодаем; а ночью втихомолку обжираться…
— Клянусь, я делился с вами всем, что имел!
— А мы нашли у тебя куриное яйцо!
Тут петух побледнел. Никогда еще звери не видели его в таком отчаянье и смятенье.
— Что вы сделали с этим яйцом?!!
Обшарив весь узелок, Пыпец кружился на месте, схватившись за голову.
— Оно там, — крикнула Виолинка, — теперь, наверно, уже испеклось вкрутую.
— Боже мой, — простонал петух; он рухнул на колени, разгреб пепел и, достав нагретое яйцо, дул на него, чтобы остудить.
— Вы видите, ему жаль для нас глупого яйца, — пискнула королевна.
— В этом яйце мой сын, — застонал петух, и слёзы закапали с его клюва.
Все умолкли, потрясённые признанием. В глубокой тишине послышалось тихое постукивание, словно кто-то обходил стены тюрьмы и, стуча в них пальцем, искал тайный выход.
— Что ты сделала, гадкая девчонка! — обрушилась лиса на Виолинку.
— Подумаешь, страшная история! У нас в замке сотни таких яиц…
— Тихо! Замолчите все, — взмолился петух, прикладывая яйцо к уху. Он стоял с минуту, внимательно прислушиваясь. Сомнений не было.
— Свершилось, — воскликнул он.
Яйцо переходило из рук в руки. Звери взволнованно вслушивались в движения малютки; уже видна была крохотная дырочка, в которую он выставил клювик. Повидимому, тепло костра помогло цыплёнку вылупиться.
— Мой сыночек! Мой дорогой… — петух покрывал яйцо поцелуями. — Ты жив… Ты жив…
— Но что мы будем делать с ним, когда он вылупится, — в дороге с малышом столько хлопот.
— Можно его выпотрошить и съесть, — сухо выговорила королевна.
Петух окаменел, прижав яйцо к груди.
— Ты, неблагодарная пигалица! — крикнула лиса. — Ты не стоишь нашей заботы и внимания.
— Боже! Ты слышишь и не гремишь, — заломил лапки Мышибрат. И вдруг раздался грохот. Молния зелёной стрелой разорвала сизые тучи. Дикая груша затрепетала, несколько мелких плодов упало на землю. Тяжёлые брызги косого дождя забарабанили по листьям.
Друзья побежали. Их догоняла высокая стена гудящего ливня. Гремел гром.
Снова настали хорошие дни. Знойная пора августа несёт с собой звон отбиваемых кос, сухой шорох срезанных колосьев. Среди лугов, где лениво сочатся голубые ручейки, аисты учат аистят охотиться на перепуганных жаб. Леса источают душный запах. Порой промелькнувшая белка задевает рыжим, как пламя, хвостом верхушки ёлок. Обвитые золотыми нитками смолы шишки уже утратили свой розовый цвет и отвердели; с шуршанием ударяясь о ветви, они падают в мох. Поляны усеяны крохотными фиолетовыми колокольчиками, а на вырубках уже начинает синеть вереск.
По вечерам, когда падает роса, усталые крестьяне возвращаются домой. Мокрые от пота рубашки овевает тёплое дыхание близящейся ночи. Крестьяне садятся на завалинке и слушают, как мирно скрипят журавли, плещется вода в желобах, как хрипит и переступает с ноги на ногу испуганный жеребенок. Иногда какая-нибудь звездочка заглядится в своё отражение и мелькнёт зелёной молнией, падая в пруд.
Но напрасно будешь искать на земле радость, над всем нависла угроза близкой войны: королевну до сих пор не нашли. Люди обсуждают новости, беспокойно вглядываются в сгущающиеся сумерки. Им кажется, что они слышат рокот барабанов и стук пушечных колес. Но это шелестят соломой о придорожный кустарник возвратившиеся с поля последние косматые возы с золотыми снопами, пахнущими хлебом и сытостью.
И тогда все спокойно вздыхают и тихо улыбаются, а ночные бабочки, привлечённые белизной рубашек, порхают вокруг, касаясь крыльями задумчивых лиц. Как раз в такое время трое друзей приближались к стенам Тулебы.
Хотя Виолинка не попросила извинения у петуха, он великодушно простил.
«Молодая, неразумная, она даже не понимает, что обидела меня», — думал он, прижимая к груди яйцо.
На дороге становилось оживлённее, чувствовалась близость города. Друзья повеселели. Мышибрат насвистывал песенку и щурил от удовольствия глаза при мысли о взбитых пуховиках, в которые он плюхнется вечером в каком-нибудь трактире. И только королевна была сердита на весь мир. Виолинка дала себе слово: пока с лица не сойдут чары цыгана, она не явится на королевский двор. Навстречу путникам шли крестьяне с пустыми корзинами и крестьянки с бидонами за спиной.
За скрытой в кустарнике часовенкой друзья услышали пронзительный свист и радостные крики. Паровоз, тащивший за собой девять вагончиков, состязался в скорости с запряжённым шестерней дилижансом. Высунувшись из окон, пассажиры покрикивали на машиниста, который бросал поленья в открытую топку. Длинная труба, похожая на катушку из-под ниток, обтянутую проволокой, дымила и шипела. Какой-то старичок пытался сэкономить пар и дудел в свёрнутую трубочкой газету, подражая паровозному гудку. Три мальчика, желая облегчить ход поезда, бежали вдоль полотна. Долговязый франт, выскочив из первого вагона, нарвал полевых цветов и вскочил на буфер, рядом с кондуктором, держащим высоко над головой красный флажок. Он карабкался теперь по крышам, чтобы вручить букет невесте. Встревоженная мать утихомиривала двух малышей; они высунулись из окна и размахивали вышитыми подтяжками задремавшего отца.
А внизу мчался дилижанс. Почтмейстер то щёлкал бичом, то, приложив к губам рожок, издавал весёлые звуки. Несколько усатых дворян, презирая станционную толчею, сажу и копоть, обещали ему, если он выиграет это состязание, большую бочку вина. Они небрежно кивали в сторону обезумевшего машиниста и курили, благовонные трубки, набитые мятовым листом. В облаках пыли и грохоте колёс дилижанс и поезд скатились с холма, устремляясь к воротам столицы.
— Пойдёмте, посмотрим, кто победит, — крикнула Виолинка.
Друзья побежали. С вершины холма им открылся вид на город, сверкнули золотистым пламенем купола церквей. По длинной тополевой аллее, пересечённой голубоватыми тенями стволов, уносился вдаль дилижанс.
Дома сверкали глазированным кирпичом, стаи голубей кружились в лазури. Издалека, с людных рынков, доносились говор и крики. Часы хрипло пробили шесть. Над зелёными верхушками садов, над гребнями крутых красных крыш, предвещая хорошую погоду, поднимались в небо тонкие струйки дыма. До зверей донёсся аромат готовящегося на плите ужина.
Взгляд петуха помутился от слёз. Там у каждого есть свой дом, стол, на котором книги шелестят пергаментными страницами, тихая жена, которая движением руки разглаживает на лбу морщины забот, и альков, где, устав от дневных дел, можно уснуть, нежно обнимая друг друга, вдыхая запах цветущей в горшках резеды. А за приоткрытым окном, в соседнем саду, поёт поздняя птица, месяц освещает фонариком шкафы, зеркала и буфеты. Алебардники покрикивают: