Горшеня мальца давешнего споймал, спрашивает у него по секрету от папашки:
— А чего это, паренёк, у вас так тихо? Куды ваши колокола попрятались?
— Тс! — говорит малец почти по-взрослому и ещё более по-взрослому молчит, не отвечает.
— Да, — вздыхает Горшеня, ухмыляясь такому обороту, — богат рынок — ничего, кроме крынок. Ни тебе лубка, ни вертепа — одна, так сказать, тискотека.
Побродили друзья ещё немного, поглазели на игровые автоматы да на кислые физиономии — что лимон пожевали. У Ивана прямо хворь по мышцам пошла от всего этого праздника. Хотел уже было Горшеню за заплату дёрнуть: дескать, пошли отсюда, пора — да тут как раз народ зашевелился, носами зафлюгерил; ни дать ни взять, событие какое-никакое наметилось на другом конце лагеря. Остановились Иван да Горшеня, вгляделись в человечий поток да снова так и замерли.
Видят: ведут стрельцы-молодцы девицу, вдесятером одну погоняют на лобное место. Та девица на вид молодица, собою пригожа — на преступницу не похожа. Никаких злодейских примет в её внешности не проскальзывает, наоборот — измождена она сильно, лицом бледна, коса распущена, грубая холстинная рубаха до пят помята и надорвана, а ноги вовсе босые. Озирается девица по сторонам, будто защиты ищет, а взгляд её — что небо осеннее: тревоги полон и отчаяньем почат.
Иван этот взгляд поймал и в самую душу свою с лёту принял. Будто кипятком его снаружи окатило, будто самогоном изнутри обожгло! Брякнуло что-то в груди, засвербило, и некая невидимая почка завязалась в районе сердца.
Переглянулись Иван с Горшеней — и без разговора друг друга поняли. Иван с ходу рукава засучивать стал, уже и зуб стальной у него во рту сверкнул.
— Постой, парень, — говорит Горшеня. — Ты суетню-то не наводи, тут надо выждать. Давай-ка мы за ними пойдём да на месте посмотрим, что к чему.
Иван возражать не стал, поглядел на Горшеню с доверием и пошёл у него за спиной. А толпа тем временем всё разрастается, всё больше зевак к себе прилепляет. Вот пришли стрельцы на лобное место, по дороге всю ярмарку собрали: на безрыбье всем интересно казнь посмотреть. Кто плюётся, кто крестится, — а всё равно всем скопом к плахе идут.
А вот и пейзаж городской — перекладина с доской! Стоит посреди площади помост струганный — старый, обветшалый, ногами утоптанный, кровушкой пропитанный. На помосте плаха топорщится, над ней палач высится истуканом; на тулове его — белый фартук, на лице — белая же марлевая повязка. Стоит он и жёвку жуёт, челюстями двигает.
Сбоку от того главного помоста еще один помост — более почётный, ошкуренный. Кресло на нём стоит кручёное, на кресле сидит судья в бархатной мантии, а пониже его несколько очень на него похожих заседателей располагаются на стульчиках. Все они подрёмывают, следят за происходящим из-под низко опущенных век, дабы свою сугубую важность подчеркнуть отсутствием какого бы ни было интереса — такие у них ответственные нерабочие должности! А внизу того помоста, на скамеечках, примостились писцы и прочая циркулярная мелочь: бумагами шуршат, язычками чешут, чернилами в стороны побрызгивают. В общем, настоящий Вавилон из древесных конструкций и живого человеческого чинопочитания!
Пока Иван с Горшеней этот каскад разглядывали, к центральному помосту каретка какая-то подъехала, вся в розочках, в глупых завиточках. Выскочил из неё ответственный секретарь — что томат с ботвой: сам кругловат да лицом красен, а ручки и ножки тонкие, в кружевных оборочках. В руках у него папка с бумагами, на голове шляпа с гербом, с пояса часы позолоченные свисают, по ляжке бьют.
— Производите, производите скорей подъём на плаху, — машет рукой стрельцам, — есть у нас намерение до обеда закончить которую процедуру!
Затолкали конвоиры девицу на помост. Секретарь на неё в лорнет зыркнул, поморщился, будто шмеля проглотил, потом в папку двумя пальцами залез, извлёк оттуда самый важный листок. Народ уже затих — учёный народ, знающий. Судья на самом верху всхрапнул торжественно — запустил барабанную дробь.
В этот зыбкий момент одна местная баба, которая рядом с Горшеней стояла да на секретаря смотрела с умилением, говорит:
— Сейчас приговор прочтут, а потом… Господи прости! — и перекрестилась.
Далее всё по-бабьему и выходит: секретарь бумажку толпе продемонстрировал, взял тон.
— Гхе-гхе, — прокашливается. — Баба рожья… Тьфу ты!.. Раба божья… Ну да. Раба божья и королевская поименованная Надзикация, называемая в дальнейшем обвиняемая, и проживающая согласно прописному свидетельству в провинциате Малые Сёмги…
Горшеня головой потряс хорошенько — думал, с ушами у него что-то неладное, какие-то странные сочетания слов слышатся. А это не в ушах дело, это на таком безухом языке секретарь разговаривает.
— …гхе-гхе… — продолжает секретарь, — что имела место с ея стороны работа во дни, высочайшим королевским велением объявленные выходными. По сему фактическому аргументу представлены неопровержимые доказательства в совокупности, имеющие из себя вид писем подмётного типа, составленных по форме нумер семнадцать близживущими соседями вышеобозначенной рабы божьей… и королевской… поименованной Надзикацией, в дальнейшем опять называемой обвиняемой.
Горшеня и Иван, как ни вслушивались, а ничего понять не могут! Повернулся Горшеня к той компетентной бабе, посмотрел внимательно в её пустую корзину и спрашивает заинтересованно:
— Скажите, мадам, на какой же это мове и о чём курословит сей посейдон? Что-то я в перфектах разобраться не могу!
— Да всё ж просто, — отвечает бабка и с подозрением на пришлых косится, — это же Надька Семионова, семерых братьев восьмая сестра! Вот он ей обвинительную-то и предъявлят!
— Семионы? — спрашивает Иван. — Разбойники?
— Какие там разбойники! — пыхтит бабка. — А то и разбойники! Оно, конечно, которые разбойники и есть! И Надька ихняя — сущая разбойница! Видал, как смотрит — волчица тонконогая!
— И в чём же виновата? — спрашивает Горшеня с сомнением. — Неужто прямо-непосредственно к разбоям причастна?
Бабка корзину за спину переместила и на самый укромный шёпот перешла.
— Хуже! — цедит сквозь зубы. — Работала она! Торговать, вишь ты, не хочет, а работать — вынь да подай! В выходные работала, тайком! Да ещё братьям своим сбежать подмогла, и направление, где их искать, не показывает!
Тут и Иван по простоте душевной вступился с вопросом:
— Какая ж это, — говорит, — работа такая, которая у вас к разбою приравнивается?
Бабка совсем скривилась от подозрений — и молчок. Понял Ваня, что лишнего спросил. Горшеня ухватил приятеля за локоть и повёл его прочь от этой бабы.
— Мы тут с тобой, Ваня, — говорит, — как две белые коровы. Вопросов задавать больше не будем, а то не ровён час и на нас такую же папку заведут… Давай-ка мы головой немножко поработаем, покумекаем, с кого боку подсечь.
Тем временем секретарь листок дочитал, собою очень доволен остался. Посмотрел на свои часики, спрашивает у обвиняемой:
— Что, — дескать, — имеешь сказать в оправдательном плане, казнимая, по первому антитезусу данной унипроформы?
А девушка смотрит на него с непониманием: вроде местная, а язык этот томатный ей чужд. Лишь по паузе поняла, что теперь за ней слово. Собралась она с духом, взглядом толпу окинула и заговорила — хоть и пугливо немного, да бойко и разборчиво; видать, долго свои слова подготавливала и важное упустить боится.
— Работала, — говорит иссушенным голосом, — в выходной работала — это правда. Но, судьи дорогие, выходным был объявлен день, а я… я же ночью работала! А что до братьев моих, то не от хорошей жизни сбежали они из дому. Да и не сбежали они, а отправились на заработки!
Тут главный судья на своём возвышении дёрнулся, сон сморгнул и не удержался — вставил своё весомое словцо.
— Вот неблагодарный народишко! — дёргает подбородком от возмущения. — Объявляешь им выходной день, так они и тут закон норовят объехать — ночью, шельмецы, работают! Наше, — хрипит с укоризной, — государство европического типа, гражданка обвиняемая, не для рабских трудов и крестьянских подвигов создавалось веками и уж тем паче не для заработков мужицких, а для гражданской радости и праздной человечьей утехи! Поскольку сказано его величеством Фомианом Первым Уверенным: работа есть физический атавизм интеллектуального организму, ведущий человека праздносвободного к эволюционной деградированности! Финитус ла цитатус.
Сказал — и так сел обратно, что весь малый помост со всеми на нём умостившимися должностями пошатнул.
Секретарь кивнул ему по-товарищески и резюмирует:
— Данное оправдание удовлетворению не подлежит. Зафикси?
— Зафикси! — отвечают писцы хором.
Горшеня с Иваном в тот момент почти из толпы выбрались. Горшеня весь аж чешется — от секретарского языка у него сыпь по телу пошла, пятна всякие размером с черничный лист. А Иван — тот вообще онемел, и голова у него сама собой всё в сторону помоста разворачивается, всё ему хочется на девицу взглянуть.
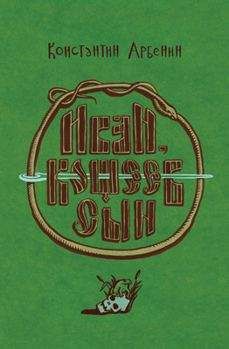




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)