Тут уж и секретарь спохватился, уставился на тот объект, дар речи потерял и папку из ног выронил. А недалеко от него Иван тоже на бахрому смотрит — глазам не верит.
— Да это же, — хрипит, — ковёр наш самолётный!
Узнал, стало быть, с детства знакомую вещь! Стрельцы головы повернули — и правда: висит над помостом ковёр-самолёт, днищем своим небеса заслоняет. И пока длилось всеобщее земное замешательство, с небесного ковра кто-то кричит:
— Сестрица! Надюха! Нашли!
Девица встрепенулась, будто от сна долгого освободилась, кричит в ответ:
— Братцы мои! Я знала, я верила…
Тут с ковра-самолёта скинулся канат, весь в узлах да перевязках, и конец этого каната стал у секретаря перед самым носом болтаться.
— Давай сюда, Надёга! — кричат сверху. — Хватайся, забирайся!
Секретарь, как только глаза свои на канате сфокусировал, пошёл весь серыми поганочными мурашками. Зашумело в его мозгу, всплыли вдруг в канцелярской душе далеко упрятанные человеческие чувства, и самое первостепенное — шкурный страх за свою завидную карьеру, которая сейчас, вот прямо на этом месте, вся может и кончиться! Видит он, бедолага, что вверенное ему дело вдруг принимает самый непредвиденный оборот. Сгруппировался канцелярский деятель, всю свою жидкую основу мобилизовал и, едва девица за канат схватилась, бросился на неё, вцепился да при этом так пронзительно завизжал, что трое стрельцов от Ивана отстали и кинулись секретарю на помощь.
Вот и пошло новое состязание: те, которые на ковре сидят, пробуют канат наверх подтянуть, а стрельцы ухватили томатного за тощую ногу и держат. Секретарь орёт благим матом, подхохатывает в перерывах (щекотно ему, видите ли), но объятий своих цепких не разжимает. Тут ещё палач из оцепенения вышел, тоже ухватился за что пришлось, стал на себя потягивать — как только не оторвал государственную конечность! Девица в секретарских объятиях искрутилась вся, коленями его пинает, в уши шипит, локтём по подбородку постукивает, но секретарь крепче всех своих телоохранителей оказался: кремень-человек! Штаны у него по швам трещат, кости в хрящах расползаются, а он держится мёртвой хваткой, ни на йоту слабины не даёт!
Иван на помост заскочил, хватил кулаком первого под него попавшего — палач и отвалился, как пиявка от лошадиного бока. Иван за следующего принялся: ухватил за воротник, дёрнул своей каменной ручищей, да только в этот миг голову вверх поднял и взглядом своим со взглядом Надежды встретился. И тут же по телу его размягчение пошло — совестно ему перед девицей таким свирепым чудовищем представать! Отшвырнул он стрельца, отвернулся и чувствует, что она на него смотрит. Тогда схватил он следующего стрельца за пояс; смотрит на свои руки — а руки-то вовсе уж не каменные, а самые обычные, человеческие! Утекает сила нечистая, только мышечная сажень остаётся! Трудно стало Ивану стрельцов одной человечьей силой брать, покрылся лоб испариной, жилы на шее вздулись, железный привкус изо рта каким-то чесночным духом сменился. Уязвим стал Ваня — и ведь не только кольчуга на нет сошла, но и вся злоба из него куда-то улетучилась! Однако ж стрельцы-то при прежней своей силушке остались — рубятся с Иваном до глубокого самозабвения!
Он уж без зла, а просто, так сказать, в соревновательном пылу, доконал стрельцов, посбрасывал их всех с помоста, последнего с большим трудом от секретарской ноги отцепил. Ковёр сразу дёрнуло, резко вверх повело, девицу с секретарём маятником раскачало. Секретарь понял, что дело плохо, смирился, отпустил руки и полетел вниз — прямо Ивану на широкую грудь причалил.
Иван смотрит вверх, на девицу, и секретаря обнимает нежно, будто он та самая девица и есть. А Надежда ему с каната кричит звонким голосом:
— Спасибо тебе, добрый человек!
Иван от этого голоса совсем себя потерял — стоит в беспамятстве, бездыханного секретаря по парику гладит.
Братья Надежду на ковёр втащили, взмыли в небо да и были таковы.
Иван опомнился, томата к плахе аккуратно прислонил и оглядывать стал картину событий. Видит: соперники все разложены кто где, угрозы больше не представляют, а вот вдалечке, где Горшеня смуту наводил, потасовка в самом своём размахе идёт. Спрыгнул Иван с помоста, поспешил в новое пекло. Идёт, людей расталкивает, от блох прыгающих отмахивается — за Горшеню у него сердце ёкнуло. Ближе подошёл, да чего боялся, то и увидел: полдюжины жандармов и ещё столько же штатских держат Горшеню за руки, ногами по животу бьют. Горшеня только охает-крёхает, ничего сказать не может, рубаха у него вся в крови, больная нога по земле волочится.
Вот тут-то озлобление к Ивану вернулось: лязгнуло в хребте железо, между кулаков искра прошла. Растопырил Кощеев отпрыск руки свои каменные и двинулся на жандармскую братию. Мах-другой сделал — половина изуверов по песку распласталась. Третий раз замахнулся — народишко сам убегать стал.
— Спасайся! — кричат. — Чудище! Чудовище!
По всему торговому полю паника пошла, люди забаву свою блошиную забросили, стали ноги уносить. Улепётывают в ужасе — так Ивана озлобление изуродовало! Подошёл он к Горшене, всеми вмиг брошенному, — сидит дружок его на земле, скулы руками ощупывает, а поглядел на Ивана — отшатнулся аж.
— Ты чего, Горшеня, — говорит Иван. — Это ж я, друг твой ситный…
А Горшеня ничего не понимает — видать, сильно ему накостылять успели. Иван стал в человечье обличье возвращаться. Только когда совсем вернулся, у Горшени в глазах прежний личный смысл появился, фокус настроился. Иван знакомую лукавинку во взгляде ухватил — улыбнулся с облегчением.
И тут откуда ни возьмись целый отряд стрельцов скачет! Это их сбежавший стрелец на помощь, значит, призвал. Прискакали — и сразу к двоим чужестранцам: хорошо оповещены, стало быть. Жандармы из укрытий подвякивают, пальцами тычут: мол, они самые, хватайте их!
Схватили стрельцы Горшеню, Ивана сгребли, развели их в разные стороны. А Иван опять не в форме — обычному человеку с таким количеством молодцов не справиться. Он разозлиться хочет, а Горшеня ему лицом показывает: не надо. Да и в голове у Ивана всё перемешалось — то девичий голос говорит ему: «Спасибо, добрый человек!» — то какие-то лешие вопят: «Чудище! Чудовище!» Попробовал Иван рыпнуться, да тут же дубинкой в темечко заполучил. А поскольку темечко в этот миг у него не чугунное было, а самое обыкновенное, живородное, то Иван ничего дальше не запомнил — потерял своё человечье сознание.
Колокола в Человечьем королевстве молчали уже давно. Точнее сказать, молчали колокольни — колоколов-то на них попросту не было. А кто же лишил их голоса? А не кто иной, как Фомиан Уверенный!
Был он, как уже говорилось, правитель набожный и суеверный, Бога боялся пуще самого чёрта, но иногда заносила его нелёгкая шут знает куда, и в хвалёный своей уверенности шёл его величество против всякой логики, содеянное оборачивал не поймёшь в чью пользу. Так и с колоколами вышло. Однажды всю ночь он писал-правил, лёг в постель на самом рассвете, а тут как раз стали заутреню звонить — да в самое королевское окно. Разозлился король Фомиан, вызвал трижды первого с дважды вторым и велел сей же час все колокола поснимать вон! А чтобы это приказание не выглядело самодурством, обосновал своё решение по всем статьям: колокола, дескать, есть предметы слишком приземлённые, то есть в буквальном смысле — слишком много в них земли и тяжёлого металла! А раз так, то какое они, эти грубые земляные слитки, имеют право символизировать высшие духовные ценности?! Да никакого! Верноподданные шустро поснимали колокола, обнажили все колокольни, но взамен ничего не водрузили — не придумали, что бы такого найти неземного, чтобы могло одновременно и звучать, и символизировать. А ещё после некоторых раздумий король и его инквизиторы решили, что без всего — оно и лучше, благороднее: мол, больше прозрачности — меньше невзрачности! Образовавшиеся на месте колоколов продувные пустоты узаконили, и велено было их именовать «музыкацией ветруса». Вот с тех самых пор и сделалось королевство таким нестерпимо тихим: кроме ветра, никто в нём музыки не играл, звона в нём не слышалось, а основным звуком был стук — топора о плаху. И даже когда на праздниках звучали духовые оркестры, создавалось впечатление пышных похорон. Кого хоронили, непонятно было, но плакать хотелось нестерпимо, даже видавшим виды мужикам.
Так что напрасно Горшеня ждал колокольного звона, пытаясь подтянуть своё ухо поближе к тюремному окошку, — молчало праздное королевство. Только тюремщик стукнул пару раз ложкой о железную миску, да лязгнул где-то в глубине подвала тяжёлый железный засов. И вся музыка!
Вот, стало быть, как обернулось: герои наши девицу освободили, а сами в темницу угодили! Теперь девица на улице, а Горшеня с Иваном в темнице сидят, к новой обстановочке привыкают и в себя приходят после давешнего карусельного дня.
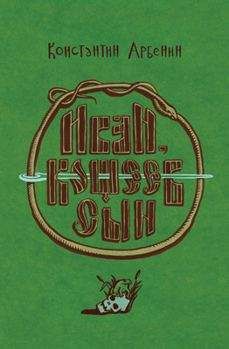




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)