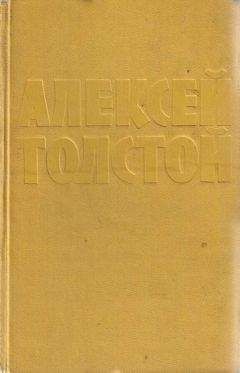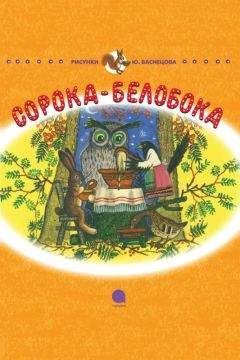Еще шире разинул грачонок желтый рот, да так и остался — дурак дураком на весь век.
Жили-были три бедовых внучонка: Лешка, Фомка и Нил. На всех троих одни только порточки приходились, синенькие, да и те были с трухлявой ширинкой.
Поделить их — не поделишь и надеть неудобно — из ширинки рубашка заячьим ухом торчит.
Без порточек горе: либо муха под коленку укусит, либо ребятишки стегнут хворостиной, да так ловко, — до вечера не отчешешь битое место.
Сидят на лавке Лешка, Фомка и Нил и плачут, а порточки у двери на гвоздике висят.
Приходит черный таракан и говорит мальчишкам:
— Мы, тараканы, всегда без порточек ходим, идите жить с нами.
Отвечает ему старший — Нил:
— У вас, тараканов, зато усы есть, а у нас нет, не пойдем жить с вами.
Прибегает мышка.
— Мы, — говорит, — то же самое без порточек обходимся, идите с нами жить, с мышами.
Отвечает ей средний — Фомка:
— Вас, мышей, кот ест, не пойдем к мышам.
Приходит рыжий бык; рогатую голову в окно всунул и говорит:
— И я без порток хожу, идите жить со мной.
— Тебя, бык, сеном кормят — разве это еда? Не пойдем к тебе жить, отвечает младший — Лешка.
Сидят они трое, Лешка, Фомка и Нил, кулаками трут глаза и ревут. А порточки соскочили с гвоздика и сказали с поклоном:
— Нам, трухлявым, с такими привередниками водиться не приходится, да шмыг в сени, а из сеней за ворота, а из ворот на гумно, да через речку — поминай как звали.
Покаялись тогда Лешка, Фомка и Нил, стали прощенья у таракана, у мыша да у быка просить.
Бык простил, дал им старый хвост — мух отгонять. Мышь простила, сахару принесла — ребятишкам давать, чтоб не очень больно хворостиной стегали. А черный таракан долго не прощал, потом все-таки отмяк и научил тараканьей мудрости:
— Хоть одни и трухлявые, а все-таки порточки.
Ползет муравей, волокет соломину.
А ползти муравью через грязь, топь да мохнатые кочки; где вброд, где соломину с края на край переметнет да по ней и переберется.
Устал муравей, на ногах грязища — пудовики, усы измочил. А над болотом туман стелется, густой, непролазный — зги не видно.
Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону метаться — светляка искать…
— Светлячок, светлячок, зажги фонарик.
А светлячку самому впору ложись — помирай, — ног-то нет, на брюхе ползти не спорно.
— Не поспею я за тобой, — охает светлячок, — мне бы в колокольчик залезть, ты уж без меня обойдись.
Нашел колокольчик, заполз в него светлячок, зажег фонарик, колокольчик просвечивает, светлячок очень доволен.
Рассердился муравей, стал у колокольчика стебель грызть.
А светлячок перегнулся через край, посмотрел и принялся звонить в колокольчик.
И сбежались на звон да на свет звери: жуки водяные, ужишки, комары да мышки, бабочки-полуношницы. Повели топить муравья в непролазные грязи.
Муравей плачет, упрашивает:
— Не торопите меня, я вам муравьиного вина дам.
— Ладно.
Достали звери сухой лист, нацедил муравей туда вина; пьют звери, похваливают.
Охмелели, вприсядку пустились. А муравей — бежать.
Подняли звери пискотню, шум да звон и разбудили старую летучую мышь. Спала она под балконной крышей, кверху ногами. Вытянула ухо, сорвалась, нырнула из темени к светлому колокольчику, прикрыла зверей крыльями да всех и съела.
Вот что случилось темною ночью, после дождя, в топучих болотах, посреди клумбы, около балкона.
На избушке бабы-яги, на деревянной ставне, вырезаны девять петушков. Красные головки, крылышки золотые.
Настанет ночь, проснутся в лесу древяницы и кикиморы, примутся ухать да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять.
Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки забегают. Щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадется, и лешего за пятку ущипнут.
Шорох, беготня по лесу. А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам:
— На место, бездельники!
Не смеют ослушаться петушки и, хоть не хочется, — прыгают в ставню и делаются деревянными, как были.
Но раз на заре не явилась баба-яга — ступа дорогой в болоте завязла.
Радехоньки петушки; побежали на чистую кулижку, взлетели на сосну. Взлетели и ахнули.
Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается; бегает ветер по листикам; садится роса.
А красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце.
В лесу светло, птицы поют, и шумят, шумят листья на деревах.
У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели кукареку! С радости.
А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-яги.
И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукуречут.
— Кукуреку, пропала баба-яга, солнце идет!
Жил у старика на дворе сивый мерин, хороший, толстый, губа нижняя лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба, во всей деревне такого хвоста не было.
Не наглядится старик на сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал мерин, что овес на гумне молотили, пошел туда, и напали на мерина десять волков, поймали, хвост ему отъели, — мерин брыкался, брыкался, отбрыкался, ускакал домой без хвоста.
Увидел старик поутру мерина куцего и загоревал — без хвоста все равно что без головы — глядеть противно. Что делать?
Подумал старик да мочальный хвост мерину и пришил.
А мерин — вороват, опять ночью на гумно за овсом полез.
Десять волков тут как тут; опять поймали мерина, ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся — не лезет мочала в горло волчье.
А мерин отбрыкался, к старику ускакал и кричит:
— Беги на гумно скорей, волки мочалкой давятся.
Ухватил старик кол, побежал. Глядит — на току десять серых волков сидят и кашляют.
Старик — колом, мерин — копытом и приударили на волков.
Взвыли серые, прощенья стали просить.
— Хорошо, — говорит старик, — прощу, пришейте только мерину хвост. Взвыли еще раз волки и пришили.
На другой день вышел старик из избы, дай, думает, на сивого посмотрю; глянул, а хвост у мерина крючком — волчий.
Ахнул старик, да поздно: на заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут.
— Дедка-то — лошадям волчьи хвосты выращивает.
И прозвали с тех пор старика — хвостырь.
Вошел верблюд на скотный двор и охает:
— Ну, уж и работничка нового наняли, только и норовит палкой по горбу ожечь — должно быть, цыган.
— Так тебе, долговязому, и надо, — ответил карий мерин, — глядеть на тебя тошно.
— Ничего не тошно, чай у меня тоже четыре ноги.
— Вон у собаки четыре ноги, а разве она скотина? — сказала корова уныло. — Лает да кусается.
— А ты не лезь к собаке с рожищами, — ответил мерин, а потом махнул хвостом и крикнул верблюду:
— Ну, ты долговязый, убирайся от колоды!
А в колоде завалено было вкусное месиво. Посмотрел верблюд на мерина грустными глазами, отошел к забору и принялся пустую жвачку есть. Корова опять сказала:
— Плюется очень верблюд-то, хоть бы издох…
— Издох! — ахнули овцы все сразу.
А верблюд стоял и думал, как устроить, чтобы уважать его на скотном дворе стали.
В это время пролетал в гнездо воробей и пискнул мимолетом:
— Какой ты, верблюд, страшный, право!
— Ага! — догадался верблюд и заревел, словно доску где сломали.
— Что это ты, — сказала корова, — спятил?
Верблюд шею вытянул, потрепал губами, замотал тощими шишками:
— А посмотрите-ка, какой я страшный… — и подпрыгнул.
Уставились на него мерин, корова и овцы… Потом как шарахнутся, корова замычала, мерин, оттопырив хвост, ускакал в дальний угол, овцы в кучу сбились.
Верблюд губами трепал, кричал:
— Ну-ка, погляди!
Тут все, даже жук навозный, с перепугу со двора устрекнули.
Засмеялся верблюд, подошел к месиву и сказал:
— Давно бы так. Без ума-то оно ничего не делается. А теперь поедим вволю…
К ночи стряпуха умаялась, заснула на полу около печи и так захрапела — тараканы обмирали со страха, шлепались, куда ни попало, с потолка да со стен.
В лампе над столом пованивал голубой огонек. И вот в печке сама собой отодвинулась заслонка, вылез пузатый горшок со щами и снял крышку.
— Здравствуй, честной народ.
— Здравствуй, — важно ответила квашня.
— Хи, хи, — залебезил глиняный противень, — здравствуйте! — и клюнул носиком.
На противень покосилась скалка.
— Не люблю подлых бесед, — сказала она громко, — ох, чешутся чьи-то бока.
Противень нырнул в печурку на шестке.