Подошла к Горшене, наклонилась и ворот к его шее примерила.
— Ну вот, — говорит, — в самый раз. Подождите, дядя Горшеня, еще пять минуточек, тут всей работы — шесть стежочков да восемь петелек.
Горшеня от всех этих «стежочков» да «петелек», от ласкового женского голоса и от согревательных шерстяных прикосновений стал в себя приходить окончательно. Принялся головой водить, местность осматривать, спасителям своим улыбается, руки почёсывает. Даже слёзы какие-то у него на глаза выползли — видать, пережало где-то. А тут ещё Иван ему в руки сидор сунул. Горшеня этому сирому мешку обрадовался, равно как дому родному, ухватил его обеими руками, нащупал заветные предметы — книгу да кисет — и душою совсем размягчился.
— Ну как, паря, — спрашивает его Аким Семионов, среди братьев самый хмурый, — вернулись к тебе земные ошшушшения?
— Ой, вернулись, братцы, — кивает Горшеня, слёзы пальцами по лицу размазывает. — Чувствую, будто и не умирал, будто соснул слегка да проспал до обеда!
— А сны, сны-то видел? — спрашивает Аким.
— Ой, братцы, такие сны видел, что аж голова поездом гудит!
— Ладно сны, — машет рукой Евсей-старшой. — Ты лучше скажи, как чувствуешь себя? Ничего не болит? Все ли конечности работают, все ли детали на ходу?
Горшеня ноги под себя сгрёб, встать попытался — и встал. Больной ноге руками помочь хотел, да только вдруг так и ошеломился — нога сгибается, как до ранения, никаких болей и неудобств не выказывает. Горшеня на ногу смотрит, от изумления что-либо сказать затрудняется.
Еремей Семионов, младшой, не вытерпел:
— Не томи, дядечка! — просит. — Поведай нам скорее в подробностях, что с тобой на том свете памятного приключилось?
А Горшеня на него уставился — не спешит с рассказом. И по выражению его лица непонятно, что он там себе думает — то ли слово точное ищет, то ли подробности вспоминает, то ли «можно» и «нельзя» взвешивает. Семионы взгляды отвели — боятся спугнуть то слово. Наконец Аким Семионов ложку об обод ковша обстучал и прерывает затянувшееся молчание.
— Что вы, — говорит, — причепились к человеку, в сознание прийтить не даёте! Ишь уши-то оттопырили! Дайте отдохнуть гостю, с чувствами совладать, а завтра уж с утречка и расспрашивайте.
— И то верно, — вздыхает Еремей-младшой.
— Да нет, ребята, какое там… — машет руками Горшеня. — Я бы и готов вам прямо сейчас всё рассказать, да только… Только получается — не помню я ничегошеньки.
Говорит Горшеня и сам диву даётся, как это его язык так легко с неправдой справляется. Ведь он всё себе помнит — и про суд, и про баню бесовскую, и про беседу с важным чёртом, а более всего помнит он про Аннушку и про своё обещание никому ничего не рассказывать! Вот из-за этого обещания и происходит в Горшениной душе неприятная сумятица — приходится ему неправду говорить, язык уродовать. А с другой стороны, это вроде и не неправда, а лишь обещанное сокрытие сомнительных фактов! Так? Так.
— Только и помню, — мямлит Горшеня, — что труба белая, и я по этой трубе лечу, в чьём-то невидимом сопровождении. И ничего боле.
И рукой неровную полосу в воздухе провёл — как скобку закрыл.
Сел он на прежнее место и задумался: а вдруг всё, что с ним давеча в Мёртвом царстве приключилось, и взаправду ему лишь привиделось? Может, всё это — только видение, бред от злого подлунникова семени? Горшеня аж головой пряднул да глаза пальцами протёр — да нет же, не может такого быть! Там же Аннушка была, самая настоящая, значит, всё на самом деле! И нога сама собою сгибается и не ноет ни капельки! И ещё там что-то такое было…
— Постой, — забеспокоился Горшеня, — постой, погоди…
Полез в левый сапог, смотрит — портянка-то совсем новенькая, белёсая, как сахарин. Размотал — а с внутренней стороны на ней химическим карандашом план начертан! Значит, точно не сон — всё так и было, как голова помнит!
— Что это за портянки у тебя расписные? — удивляется Иван.
— Тс-с! — прикрывает рот Горшеня. — Это, Ваня, всем портянкам портянка — мунускрипт называется. Это то, что нам с тобою очень нужно.
Сказал и как-то с подозрением на Семионов покосился — не знает, можно ли при них об Ивановых важных делах распространяться. Иван те сомнения понял и жестом Горшеню успокаивает, показывает, что всё своим новым знакомцам рассказал и, стало быть, тайн от них не имеет.
— А этот? — кивает Горшеня на Трифона.
Иван на «этого» только рукой махнул — мол, от него теперь никому вреда не будет. А бывший инквизиторский секретарь и вправду совсем стушевался — сидит тише воды, ниже травы, пытается мужицкую деревянную ложку в свой изнеженный рот засунуть да так кашу прожевать, чтобы по ходу дела не стошнило. Посмотрели на него братья Семионы — покатнулись со смеху.
— Ну ладно, — продолжает тогда Горшеня. — Смотри, Ванюша, на эти каракули внимательно, надо нам в них разобраться, поскольку это есть карта-схема нашего с тобой продвижения к месту, где смерть твоего отца Кощея Бессмертного запрятана.
Иван так и обмер. Братья Семионы смотрят на Горшеню с уважением, на Ивана — с товарищеской радостью. Понимают, что друг для друга нечто важное добыл.
— Горшенчик! — заходится Иван. — Друг ты мой родной! Какой же ты молодчина! Как же я тебе рад, живучий ты малый!
Горшеня портянку ему сунул.
— Бери, — говорит, — изучай досконально. У меня глаза ещё слабые, мелкие детали разобрать не могу.
Сел Иван портянку расписную изучать, подробности её разглядывать, а Надя тем временем вязание закончила, узелки подкусила, протянула Горшене красную безрукавку.
— Держи, дядь Горшеня, надевай, согревайся.
Горшеня обнову надел, кланяется Надежде:
— Спасибо, Наденька, — говорит. — Чудо что за одёжа — сразу озноб прошёл, сразу здоровым себя чувствую! Обогрела ты меня, девонька.
Иван от карты взгляд оторвал и как-то недобро на Горшеню глянул.
— А откуда, Горшеня, у тебя схема-то эта? — спрашивает с каким-то подозрительным подвохом. — Можно ли ей доверять?
Горшеня смотрит на него в упор, и ответное недовольство в этом его упорстве проглядывает. Впервые Горшеня с Иваном так друг на друга смотрят, будто стенка какая-то между ними выстроилась.
— Доверять можно. А откуда она — не помню, — врёт Горшеня. — Кто-то мне в том туннеле её выдал, а кто — я запамятовал. Наваждение какое-то…
Иван не поверил, но неприветливого чувства своего устыдился и больше ничего спрашивать не стал. Сидит и смотрит на портянку — отдать её обратно Горшене, думает, или же при себе оставить?
А Горшеня схмурился, притулился к поваленному дереву, ноги босые чуть ли не в самый костёр засунул и сидит тихо. Бороду растеребил до мочального состояния — по всему видать, что-то сильно его гложет.
— Тебе, Горшеня, ещё поспать надо часиков так десять-двенадцать с храпом, — говорит ему Евсей Семионов. — Тогда окончательно в строй вернёшься.
— К строевой я негоден, — говорит Горшеня. — А вот поспать с храпом — это запросто.
И показалось ему, что поспать — это сейчас единственный выход из его затруднительного душевного состояния.
— Э, с храпом нельзя, — поглаживает усы Аким Семионов. — У нас всё ж таки засекреченный лагерь, а не пенсионат. А если в сёлах услышат? Я таких храпачей знаю, которых в Америке слыхать, когда лягут отдыхать.
— А я по-солдатски — в кулачок схрапну, — улыбается Горшеня.
Подмигнул Ивану — дескать, не серчай, дружок, всё согнутое выпрямится, — и на боковую устроился.
28. Каждому — своя бессонница
Неймётся отцу Панкрацию, изводит его сверлящий зуд, требует немедленных и решительных действий. А раскрывать себя раньше времени нельзя, сначала надо конкурентов обезоружить, убедиться в их бездействии и разгильдяйстве. Уже дал выдающийся инквизитор задания своим тайным агентам выяснить, чем король Фомиан занимается, а самое главное — насчёт трижды первого справки навести. Его отец Панкраций больше всего остерегается, самую крупную свинью может тот хитродеятельный министр подложить, у него в министерском портфеле таких свиней — по самые позолоченные застёжки!
Отчима Кондрация выдающийся инквизитор на себя взял — засел с ним вместе за очередную трапезу, поит его креплёными напитками, бойко один с другим смешивает. И всё, как задумано, идёт: отчим Кондраций от эдакой заботы совсем в философию ушёл, совсем от главной инквизиторской линии отклонился. И вот ведь какое дело: ещё недавно отца Панкрация такое отклонение в ужас приводило, а теперь он ему даже рад.
— Почему же, коллега, нет в этом мире справедливости? — мямлит отчим Кондраций. — Почему так: верим в Бога мы, работаем за него мы, себя не щадим — от его имени — тоже мы, а чудеса происходят с этими безбожниками?! С этими голопузыми лаптями!
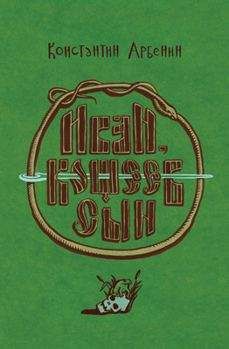




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)